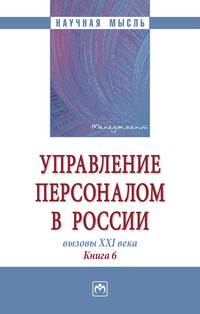Управление персоналом в России: вызовы XXI века. Книга 6
Управление персоналом в России: вызовы XXI века
В монографии под редакцией И.Б. Дураковой анализируются ключевые проблемы управления персоналом в России в контексте вызовов XXI века. Авторы рассматривают широкий спектр вопросов, от формирования политической элиты до продления трудоспособности работников старших возрастов, предлагая комплексный взгляд на современные тенденции и вызовы.
Формирование гражданского общества и роль элит
Монография начинается с анализа формирования гражданского общества в современной России, уделяя особое внимание роли политических и управленческих элит. Авторы подчеркивают актуальность проблемы "восстания элит" и его влияния на демократические процессы. Рассматривается эвристический потенциал концепта элитизма в политическом анализе, анализируются современные российские элиты, их фрагментация и готовность к переменам.
Инновационные особенности управления персоналом
Второй раздел посвящен инновационным особенностям управления персоналом. Анализируется влияние научно-технического прогресса на профессиональную деятельность, включая изменение условий труда и рост эмоциональной напряженности. Рассматриваются вопросы работоспособности, факторы, влияющие на нее, и принципы организации умственной деятельности. Отдельное внимание уделяется психофизиологической надежности работника и практике оценки профессиональной пригодности.
Правовые аспекты трудовых отношений
В главе о трудовом праве рассматриваются вопросы заемного труда, его российские особенности и международный опыт правового регулирования. Анализируются правовые аспекты использования полиграфа в системе кадровой безопасности, включая оценку кандидатов, выявление работников группы риска и проведение служебных разбирательств.
Менеджмент талантов и продление трудоспособности
В монографии уделяется внимание менеджменту талантов, рассматриваются таланты как конкурентное преимущество, современные модели управления талантами и особенности удержания талантливых сотрудников. Отдельно рассматривается продление трудоспособности работников старших возрастов, включая специфику проблемы, возрастную периодизацию, эйджизм, обучение и мотивацию.
Последствия вызовов XXI века
В заключительной главе анализируются последствия вызовов XXI века. Рассматриваются новые и "устаревшие" профессии, требования к их представителям, а также дистанционная занятость в России и ее основные направления. Подчеркивается важность управления посещаемостью работы и трудового абсентеизма, а также современные подходы к обучению и мотивации работников.
- ВО - Бакалавриат
- 38.03.02: Менеджмент
- 38.03.03: Управление персоналом
- ВО - Магистратура
- 38.04.02: Менеджмент
- 38.04.03: Управление персоналом
Москва ИНФРА-М 2024 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА МОНОГРАФИЯ Книга 6 Под редакцией доктора экономических наук, профессора И.Б. Дураковой
У67 Управление персоналом в России: вызовы XXI века. Книга 6 : монография / под ред. И.Б. Дураковой. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 297 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_ 5d09c1c8409651.22507594. ISBN 978-5-16-014752-9 (print) ISBN 978-5-16-107255-4 (online) Монография содержит результаты исследований, касающихся ряда основных проблем управления персоналом. Во-первых, создания политической и управленческой элиты, менеджмента образовательных организаций, религиозных аспектов формирования гражданского общества. Во-вторых, изменений в условиях трудовой деятельности, устаревания одних и появления новых профессий, дистанционной занятости, эмоциональной напряженности на рабочих местах. В-третьих, управления трудовым абсентеизмом, использования полиграфа для обеспечения организационной безопасности, правовых аспектов управления заемным трудом, преодоления эйджизма. В-четвертых, повышения работоспособности занятых, эффективной организации оплаты труда, менеджмента талантов, опыта продления трудоспособности работников старших возрастов через рациональные формы мотивации, обучения и удержания в организации, менеджмента здоровья, формирования кадрового резерва для эффективного функционирования бизнеса в перспективе. Для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников, обучающихся или проводящих исследования в области управления персоналом, а также профессорско-преподавательского состава вузов и работодателей. УДК 331.108(470+571)(075.4) ББК 65.050.2(2Рос) УДК 331.108(470+571)(075.4) ББК 65.050.2(2Рос) У67 © Коллектив авторов, 2019 ISBN 978-5-16-014752-9 (print) ISBN 978-5-16-107255-4 (online) Р е ц е н з е н т : Бобков В.Н., доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук
Введение Вступивший в свое совершеннолетие двадцать первый век осознанно «бросает перчатку» на поле функциональной работы с персоналом, делая вызов за вызовом российскому кадровому менеджменту. В арсенале новых проблем — «восстание элит» как вызов демократии нового века, диагностика их потенциала и готовность к переменам. Революции в образовании, требующие трансформации системы вузовского менеджмента. Учет конфессиональных особенностей при формировании гражданского общества современной России. Изменившийся профиль требований к современным руководителям и специалистам в условиях трансформации условий труда, новые профессии взамен устаревшим, дистанционная занятость, взрыв эмоциональной напряженности при решении современных производственных задач — далеко не полная палитра условий, которые нужно учитывать кадровому менеджменту организаций с учетом возможных препятствий и затруднений. Для их профилактики и минимизации — опыт работодателей по управлению трудовым абсентеизмом, использованию полиграфа для обеспечения организационной безопасности, знание правовых аспектов управления заемным трудом, преодоления эйджизма. С принятием во внимание изменившихся условий хозяйствования, системы ценностей новых поколений, производственных барьеров и использованием современных подходов к управлению персоналом организации могут принять вызовы XXI века и решать задачи повышения работоспособности занятых, формирования эффективных систем оплаты труда, внедрения менеджмента талантов, удержания работников старших возрастов, обучения кадрового резерва. Попытка исследования характера вышеприведенных вызовов нового века, особенностей их проявления и опыта принятия в России и европейских странах составляет содержание настоящей монографии. Разделы монографии подготовлены следующими учеными: 1.1 — Глухова А.В., д-р полит. наук, проф.; 1.2 — Митрофанова Е.А., д-р экон. наук, проф., Тарасенко В.В., канд. пед. наук, доц.; 1.3 — Некрасов А.В., канд. филос. наук; 2.1 — Стадниченко Л.И., канд. экон. наук, доц.; 2.2 — Жуков А.Л., д-р экон. наук, проф.; 3.1 — Стрыгина М.А., канд. юрид. наук; 3.2 — Горский В.В., канд. юрид. наук, Горский М.В., канд. юрид. наук; 4.1–4.3 — Пугач С.П., канд. экон. наук, доц.; 5.1–5.2 — Дуракова И.Б., д-р экон. наук, проф., Майер Е.В.; 5.3 — Талтынов С.М., канд. экон. наук, доц.; 6.1 — Григоров И.В.; 6.2 — Гречко Т.Ю., канд. мед. наук, доц.; 7.1 — Коновалова В.Г., канд. экон. наук, доц.; 7.2 — Сотникова С.И., д-р экон. наук, проф.; 7.3 — Долженкова Ю.В., д-р экон. наук, доц., Руденко Г.Г., д-р экон. наук, проф.; 7.4 — Шаталова Н.И., д-р социол. наук, проф.
Глава 1 ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 1.1. ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ РОССИИ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ XXI ВЕКА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ) 1.1.1. «Восстание элит» — вызов демократии в XXI веке К числу новых и тревожных тенденций политического развития современного мира исследователи все чаще относят ослабление национального государства, связанное с целым рядом факторов, включая глобализацию, ослабление нации как «политического тела» государства, усиление регионального и социокультурного разнообразия современных обществ и т.д. Еще один заметный фактор — повсеместный упадок среднего класса, привносившего в политическую культуру своих стран чувства места и уважения к истории как непрерывности времени. Этим обеспечивалась общая почва, общие мерки, некая общая система отсчета, при утрате которой общество распадается на соперничающие группировки, протестующие против временных и пространственных ограничений. Упадок наций, таким образом, оказывается тесно связанным со всемирным упадком среднего класса, усилением поляризации в доходах между верхними и нижними слоями общества и со стремительным процессом космополитизации элит. С легкой руки К. Лэша этот процесс получил название «восстания элит»1. Он становится одной из ключевых проблем, требующих повышенного внимания при трезвом анализе перспектив дальнейшего развития современного мира2. Произошедшие в течение последнего времени изменения следует рассматривать в контексте глобализации, оказывающей все более существенное влияние на процессы элитогенеза. Ядром политической глобализации стало усиление взаимодействия между национальными элитами. Возникает новое качество 1 Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. Пер. с англ. / Перевод Дж. Смити, К. Голубович. М.: Логос; Прогресс, 2002. 2 См.: Элиты в современных политических процессах (опыт сравнительного исследования): монография / [А.В. Глухова и др.]; под ред. проф. А.В. Глуховой. Воронеж: Научная книга, 2009. С. 175.
межэлитных контактов: на смену относительно устойчивым альянсам в рамках национальных границ и военно-политических союзов приходит гибкая и меняющая конфигурацию система временных элитных альянсов, преодолевающих национальные границы1. Формируется отчетливо осознающая свою автономность транснациональная элита, которая слабо подотчетна национальным электоратам. Постепенное смещение центра принятия решений с национального на наднациональный уровень ослабляет возможности как рядовых граждан, так и групп давления, сформированных в лоне национальной политики, влиять на принятие решений общенационального масштаба. Иными словами, в условиях глобализации субъекты принятия решений становятся более самодостаточными, а их решения — менее доступными для общественного понимания, что способствует усилению политической власти элит. Эта тенденция встречает обоснованную тревогу в научных кругах. По словам известного английского социолога К. Крауча, демократическое политическое устройство в современном мире оказывается под угрозой, что обусловлено воздействием нескольких факторов. Во-первых, происходят изменения в классовой структуре постиндустриального общества, которые порождают множество профессиональных групп. В отличие от промышленных рабочих, крестьян, государственных служащих и мелких предпринимателей, эти группы так и не создали собственных автономных организаций для выражения своих политических интересов. Во-вторых, произошла огромная концентрация власти и богатства в многонациональных корпорациях, которые способны оказывать политическое влияние, не прибегая к участию в демократических процессах, хотя они, вместе с тем, имеют огромные ресурсы для того, чтобы в случае необходимости попытаться манипулировать общественным мнением. В-третьих, под действием обеих этих сил происходит сближение политического класса с представителями корпораций и возникновение единой элиты, далекой от нужд простых людей, особенно с учетом возрастающего в XXI веке неравенства2. «Благодаря вновь обретенной “бестелесности” власти в ее главной, финансовой форме, властители приобретают подлинную экстерриториальность, даже если физически остаются на месте, — отмечает известный английский социолог З.Бауман. — Их власть полностью и окон 1 См.: Гаман-Голутвина О.В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт // Политические исследования. 2008. № 6. С. 67—85. 2 См.: Крауч К. Постдемократия [Текст] / пер. с англ. Н.В. Эдельмана; Гос. ун-т Высшая школа экономики. М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. С. 7–8.
чательно становится “не от мира сего” — не принадлежит к физическому миру, где они строят свои тщательно охраняемые дома и офисы, которые сами по себе экстерриториальны, защищены от вторжения нежеланных соседей, отрезаны от всего, что связано с понятием “местное сообщество”, недоступны тем, кто, в отличие от носителей власти, к этому сообществу привязан»1. Экстерриториальность элит обеспечивается их физической недоступностью для всех, кто не обладает входным пропуском в их сообщество. В результате в мире может появиться система, условно называемая «постдемократией», в которой политики все сильнее замыкаются в своем собственном мире, поддерживают связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе и маркетинговых исследованиях. При этом все формы, характерные для здоровых демократий, остаются на своих местах, создавая иллюзию народовластия и контроля над элитами. Если в начале XX века главную угрозу общественному порядку и цивилизующим традициям западной культуры философы видели в «восстании масс» (Х. Ортега-и-Гассет), то сегодня, скорее, опасность представляет «восстание элит» (К. Лэш), приобретших немыслимую в сравнении с прошлым веком степень независимости от какого бы то ни было контроля снизу. Вместе с тем сохраняет свое значение социокультурный фактор. В той мере, в какой среди элиты сложился консенсус в отношении базовых ценностей, поддерживающихся в широких общественных слоях, вызовы персонализма, «жесткой силы» во внутренней и внешней политике оказываются для нее лишь временными испытаниями. С другой стороны, отсутствие осмысленного консенсуса внутри политической элиты, ее оторванность от реальных интересов различных социальных групп и слоев приводит к конъюнктурным попыткам опереться на очередной политический нарратив («единственно правильное учение») или самоутвердиться в рядах мировой элиты посредством демонстрации огромных финансовых ресурсов. Однако подобный курс в новых условиях представляется не просто нереальным, но и ошибочным. Мир, каким он сложился после 1989 года, отличается высокой конкуренцией не столько в области вооружений, сколько идей и технологий. Невосполнимым ресурсом становятся знания, информация, интеллект как главные слагаемые так называемой «мягкой силы» (Дж. Най), т.е. авторитета и привлекательного имиджа страны на международной арене. Очевидно, что ответственность за международный и внутренний имидж страны, за степень и характер общественной консолидации несут полити 1 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004. С. 32.
ческие, административные, интеллектуальные и бизнес-элиты, что составляет содержание их функциональной роли. 1.1.2. Эвристический потенциал концепта элитизма в политическом анализе Понятие «элита» получило прочную прописку в российских общественных науках сравнительно недавно. Несмотря на то, что согласия в отношении этого понятия в отечественной науке нет до сих пор, оно не просто успешно прижилось в публичном политическом пространстве, но и выросло до одного из ведущих исследовательских направлений в политологической проблематике — элитологии. Тем важнее уточнить смысл и объем этого концепта, применив его в дальнейшем к российским реалиям. Несмотря на то, что выдающиеся мыслители прошлого в своих трудах неоднократно обращались к феномену общественного неравенства, разделения общества на благородных и чернь, властвующих и подвластных, первые связные теоретические представления по проблеме элиты появляются в конце XIX века. В нейтральном, эмпирическом смысле этот термин обозначает меньшинство, на законных или незаконных основаниях сконцентрировавшее в своих руках власть, богатство и привилегии. Элитизм — это формулировка принципа, согласно которому у власти должна находиться элита, т.е. меньшинство, или же практическое применение этого принципа. Происхождение концепции элит (в трудах итальянских ученых Г. Моски и В. Парето) тесно связано с ранней стадией модерна, когда впервые затрагиваются проблемы массовизации и универсализации общества, снятия социальных, правовых и культурных барьеров между людьми разного состояния и превращения сословного социума в достижительное и открытое общество современного типа. Именно тогда в более или менее четком виде формулируется представление о влиянии высших сословий либо властных и имущественных групп на низшие слои («спуск образца»). Кроме того, понятие элиты предполагало также моральный авторитет просвещенных людей, соединение идеи просвещения и рационализации с идеей эмансипации, в том числе политической и социальной. Другими словами, функциональная роль понятия элиты в социальных и политических науках заключается в том, чтобы «ввести представление о движущих силах развития тогда, когда другие источники инновационного процесса (институциональные либо групповые интересы) оказываются в силу тех или иных исторических обстоятельств неясными или неопределенными. Тогда начинают подчеркивать силу идей, роль идеологического фактора, обеспечивая тем самым консолидацию группы, не имеющей других
ресурсов и средств влияния, кроме своих убеждений», — отмечают отечественные социологи Л. Гудков и Б. Дубин1. Отмеченное российскими социологами обстоятельство сказалось на методологии исследовании переходных политических процессов на рубеже XX—XXI веков. Популярная в этот период транзитология, носившая телеологический характер и подчеркивавшая важность формальных правил и конституций для ограничения власти правителей, довольно быстро обнаружила свою ограниченность. Ее основной постулат об игре с положительной суммой, в которой сотрудничество выгодно всем участникам, оказался слабо релевантным российским реалиям. Напротив, теория элит исходит из того, что элиты и общество преследуют разные интересы, и первым трудно преодолеть свои внутренние противоречия и создать институты для поддержания консенсуса и воспроизводства элиты на протяжении длительного времени. «Теории элит скептически оценивают устойчивость демократии и формальных институтов в целом, подчеркивая гибкость элит и многообразие способов, которыми они могут реализовать свои интересы через неформальные сети», — отмечает П. Ратленд2. В современной элитологии дискуссионными являются вопросы, касающиеся состава и функций элит и, как следствие, инстанций и критериев признания их деятельности. Это особенно важно в плане операционализации и эмпирической проверки категории «элита». К числу важнейших относится, например, вопрос о специфике символических ресурсов группы, претендующей на общественное признание в качестве элиты (достаточный авторитет, источник смыслов или значимых достижений, служащих образцом для других). Другим важным вопросом является механизм отбора кандидатов в состав элиты (включая субъектов отбора, его критериев, а также условий институционализации и воспроизводства группы); о воздействии элиты на социальную структуру; о влиянии на механизмы принятия важнейших государственных решений. Качества элиты имеют огромное значение для поддержания определенных оснований социального порядка: последний может поддерживаться либо индивидуальными заслугами и достижениями, признаваемыми автономными сообществами и специальными институтами, либо задаваться «сверху» власть предержащими и реализовываться через органы государственного принуждения. Справедливым, общепринятым и морально одобряемым может стать лишь такой социальный порядок, который основан на соот 1 Гудков Л., Дубин Б. Иллюзия модернизации: российская бюрократия в роли «элиты» // Pro et contra. № 3 (37), май — июнь 2007. С. 74—75. 2 Ратленд П. Постсоветские элиты России // Политические исследования. 2018. № 3. С. 58.
ветствующих ресурсах «гратификации» элиты: уважение за общепринятые достижения, за реально полученные результаты и т.д. Иными словами, справедливость социального порядка должна быть санкционирована элитой и ее достижениями, что обеспечит последнему соответствующую легитимность. Отсюда не всякая группа носителей уникального ресурса (властного, финансового, культурного капиталов и т.д.) может исполнять функции элиты. С социологической точки зрения ее важнейшим признаком является открытость, то есть публичный характер оценки и сертификации кандидатов, квалификации их деятельности, доходов, моральных характеристик и т.д. Но это предполагает систематическую связь элит с другими социальными институтами, функционирующими автономно от власти и ее механизмов: независимыми СМИ, университетами, фондами, общественной экспертизой и прочими образованиями, создающими среду публичности как непременное условие обсуждения, рефлексии над действиями власти. Без конкурентной системы образования, без конкурсной политики занятия ключевых позиций и должностей на общественной, экономической и государственной службе подлинные элиты не могут ни возникнуть, ни функционировать. Их деятельность должна проходить под контролем общественности в лице независимых СМИ, организаций гражданского общества, опирающихся на суд и политические партии. Принципы и механизмы формирования элиты — это и есть разные формы контроля общества над властью, своего рода «страховка» от монополизации ею центральных функций политической и управленческой системы и тем самым от их выхолащивания и последующей деградации. «Именно профессиональная группа и культурная среда должна засвидетельствовать ценность и оригинальность достижений данного кандидата, претендующего на вхождение в состав элиты. И лишь после этого публичные выступления последнего по общественнозначимым вопросам, заинтересовавшие “всех”, превращают его в одного из представителей элит»1. По мнению авторов, российская «элита» представлена преимущественно околовластными кругами, поскольку нет никаких других образований или инстанций, санкционирующих авторитет кандидата в элиту. Отсюда более точным было бы говорить о «позиционной элите», т.е. о номенклатуре, унаследованной от кадровой политики советского периода. Эти люди назначаются вышестоящим начальством, подчиняются власти и зависят от нее. Этим же объясняется тот факт, что понятие «элита» в нынешнем российском словоупотреблении не связано напрямую с социальной 1 Гудков Л., Дубин Б. Иллюзия модернизации: российская бюрократия в роли «элиты» // Pro et contra. № 3 (37), май—июнь 2007. С. 76.
структурой, лишено черт института или определенной социальной группы с ясными признаками принадлежности и механизмами группообразования. Кроме того, принадлежность к ней не имеет отношения к продуктивности деятельности или наличию достижений. Следовательно, меритократические свойства, занимающие центральное место в требованиях, предъявляемых в современном мире к власть предержащим, в России фактически не действуют. К элите причисляются люди, являющиеся по существу либо высокопоставленными чиновниками, либо аффилированными с бюрократией специализированными социальными группами (как правило, непубличными). Неудивительно, что в российском политическом дискурсе постоянно вспыхивают дискуссии о том, насколько оправданным является само употребление термина «элита» применительно к отечественным реалиям. По мнению ряда авторов (Ж. Тощенко, Л.Д. Гудкова, Б. Дубина и других), ярлык «элита» стал использоваться в России набирающими силу политическими манипуляторами, менеджерами избирательных кампаний, политическими консультантами и близкими к ним молодыми управленцами новых массмедиа, прежде всего, главных телеканалов, все более жестко контролируемых государством1. Переход страны от авторитарного к демократическому политическому режиму, к правовому государству развенчал прежние идеологические основы государства и потребовал новых оснований, новых авторитетов и образцов. Это способствовало процессу социальной мимикрии, перехвата идеологически нагруженных, значимых и легко опознаваемых терминов, использования их для восстановления консенсуса между властью и бюрократией. Отсюда российская «элита» коренным образом отличается от ее европейского аналога, поскольку несет на себе черты так называемой «эрзац-элиты» советского образца, закрытой категории лиц, сформированных из номенклатуры либо интеллигенции. Во-первых, в российском социуме отсутствуют полноценные механизмы политического, гражданского, культурного представительства социальных и экономических групп, территорий, меньшинств разного рода. Во-вторых, нет публичного и открытого обсуждения представленных программ, точек зрения, позиций, интересов или стратегий 1 См.: Тощенко Ж.Т. Элиты? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социологические исследования. 1999. № 11. С. 123—133; Шарков Ф.И., Понеделков А.В., Воронцов С.А. О проблемах современной российской политической элиты и возможных направлениях их разрешения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2017. Том 17. № 4. С. 524—541.