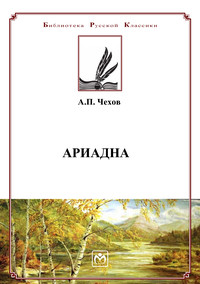Ариадна
Бесплатно
Основная коллекция

Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Автор:
Чехов Антон Павлович
Год издания: 2015
Кол-во страниц: 25
Дополнительно
Вид издания:
Художественная литература
Артикул: 627401.01.99
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 45.03.01: Филология
- 45.03.99: Литературные произведения
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Б и б л и о т е к а Р у с с к о й К л а с с и к и А.П. Чехов АРИАДНА
А.П. Чехов АРИАДНА Москва ИНФРА–М 2015 2
АРИАДНА На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой–то господин, довольно красивый, с круглою бородкой, подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал: – Обратите внимание на этих немцев, что сидят около рубки. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему–то когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких материях. Но главное – о женщинах. Лицо этого господина было уже знакомо мне. Накануне мы возвращались в одном поезде из–за границы, и в Волочиске я видел, как он во время таможенного осмотра стоял вместе с дамой, своей спутницей, перед целою горой чемоданов и корзин, наполненных дамским платьем, и как он был смущен и подавлен, когда пришлось платить пошлину за какую–то шелковую тряпку, а его спутница протестовала и грозила кому–то пожаловаться; потом по пути в Одессу я видел, как он носил в дамское отделение то пирожки, то апельсины. Было немножко сыро, слегка покачивало, и дамы ушли к себе в каюты. Господин с круглою бородкой сел со мной рядом и продолжал: – Да, когда русские сходятся, то говорят только о высоких материях и женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка. Русский актер не умеет шалить, он в водевиле играет глубокомысленно; так и мы: когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения. Это недостаток смелости, искренности и простоты. О женщинах же мы говорим так часто потому, мне кажется, что мы неудовлетворены. Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность, мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, разбитые надежды, душевная боль, а что у кого болит, тот о том и говорит. Вам не скучно продолжать этот разговор? – Нет, нисколько. – В таком случае позвольте представиться, – сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь: – Иван Ильич Шамохин, московский помещик некоторым образом... Вас же я хорошо знаю. 3
Он сел и продолжал, ласково и искренно глядя мне в лицо: – Эти постоянные разговоры о женщинах какой–нибудь философ средней руки, вроде Макса Нордау, объяснил бы эротическим помешательством или тем, что мы крепостники и прочее, я же на это дело смотрю иначе. Повторяю: мы неудовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотим, чтобы существа, которые рожают нас и наших детей, были выше нас, выше всего на свете. Когда мы молоды, то поэтизируем и боготворим тех, в кого влюбляемся; любовь и счастье у нас – синонимы. У нас в России брак не по любви презирается, чувственность смешна и внушает отвращение, и наибольшим успехом пользуются те романы и повести, в которых женщины красивы, поэтичны и возвышенны, и если русский человек издавна восторгается рафаэлевской мадонной или озабочен женской эмансипацией, то, уверяю вас, тут нет ничего напускного. Но беда вот в чем. Едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких–нибудь два–три года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми; сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас, и в конце концов убеждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки, – одним словом, не только не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин. И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись. Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это оттого, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине. Хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не отзывался дурно об иностранцах, и это располагало в его пользу. Было также заметно, что на душе у него неладно и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую–нибудь длинную историю, похожую на исповедь. И в самом деле, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, он начал так: – Помнится, в какой–то повести Вельтмана кто–то говорит: «Вот так история!» А другой ему отвечает: «Нет, это не история, а только интродукция в историю». Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция, мне же, собственно, хочется рассказать нам свой последний роман. Виноват, я еще раз спрошу: вам не скучно слушать? 4
Я сказал, что не скучно, и он продолжал: – Действие происходит в Московской губернии, в одном из ее северных уездов. Природа тут, должен я вам сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высоком берегу быстрой речки, у так называемого быркого места, где вода шумит день и ночь; представьте же себе большой старый сад, уютные цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивняком, который в большую росу кажется немножко матовым, точно седеет, а по ту сторону луг, за лугом на холме страшный, темный бор. В этом бору рыжики родятся видимо–невидимо, и в самой чаще живут лоси. Я умру, заколотят меня в гроб, а всё мне, кажется, будут сниться ранние утра, когда, знаете, больно глазам от солнца, или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река – одним словом, такая музыка, что хочется и плакать и громко петь. Запашка у нас небольшая, но выручают луга, которые вместе с лесом дают тысяч около двух ежегодно. Я у отца единственный сын, оба мы люди скромные, и этих денег, плюс еще отцовская пенсия, совершенно хватало. Первые три года по окончании университета я прожил в деревне, хозяйничал и всё ждал, что меня куда–нибудь выберут, главное же, я был сильно влюблен в одну необыкновенно красивую, обаятельную девушку. Была она сестрой моего соседа, помещика Котловича, прогоревшего барина, у которого в имении были ананасы, замечательные персики, громоотводы, фонтан посреди двора я в то же время ни копейки денег. Он ничего не делал, ничего не умел, был какой–то кволый, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом. Человек он, впрочем, был деликатный, мягкий и неглупый, но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб магнетизмом. Во–первых, у умственно не свободных людей всегда бывает путаница понятий и говорить с ними чрезвычайно трудно, и, во– вторых, обыкновенно никого они не любят, с женщинами не живут, а эта таинственность действует на впечатлительных людей неприятно. И наружность его мне не нравилась. Он был высок, толст, бел, с маленькой головой, с маленькими блестящими глазами, с белыми пухлыми пальцами. Он не жал вам руку, а мял. И всё, бывало, извиняется. Просит что–нибудь – извините, дает – тоже извините. Что же касается его сестры, то это лицо совсем из другой оперы. Надо вам заметить, что в детстве и в юности я не 5
был знаком с Котловичами, так как мой отец был профессором в N. и мы долго жили в провинции, а когда я познакомился с ними, то этой девушке было уже двадцать два года, и она давно успела и институт кончить, и пожить года два–три в Москве, с богатой теткой, которая вывозила ее в свет. Когда я познакомился и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя – Ариадна. Оно так шло к ней! Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как леденцы, в ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства – и не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями, мне всё еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой–то широкий, изумительный замысел. Голос Ариадны, ее шаги, шляпка и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пескарей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие–то особенные, милые свойства. Положим, понадобилась ей новая лошадь, а денег нет, – ну, что ж за беда? Можно продать что–нибудь или заложить, а если приказчик божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать с флигелей железные крыши и спустить их на фабрику или в самую горячую пору погнать рабочих лошадей на базар и продать там за бесценок. Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов всё прощалось и всё позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили: и мой отец, и соседи, и мужики. И все мне сочувствовали. Когда, случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили: – Дай бог вам жениться на котловичевой барышне. 6
И сама Ариадна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам верхом или на шарабане и проводила иногда целые дни со мною и с отцом. С моим стариком она подружилась, и он даже научил ее кататься на велосипеде – это было его любимое развлечение. Помню, как однажды вечером они собрались кататься и я помогал ей сесть на велосипед, и в это время она была так хороша, что мне казалось, будто я, прикасаясь к ней, обжигал себе руки, я дрожал от восторга, и когда они оба, старик и она, красивые, стройные, покатили рядом по шоссе, встречная вороная лошадь, на которой охал приказчик, бросилась в сторону, и мне показалось, что она бросилась оттого, что была тоже поражена красотой. Моя любовь, мое поклонение трогали Ариадну, умиляли ее, и ей страстно хотелось быть тоже очарованною, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично! Но любить по–настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. В ней уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она, определенно не знавшая, для чего, собственно, она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя в будущем не иначе, как очень богатою и знатною, ей грезились балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой salon и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов, и всё это поклоняется ей и восхищается ее красотой и туалетами... Эта жажда власти и личных успехов и эти постоянные мысли всё и одном направлении расхолаживают людей, и Ариадна была холодна: и ко мне, и к природе, и к музыке. Время между тем шло, а посланников всё не было, Ариадна продолжала жить у своего брата спирита, дела становились всё хуже, так что уже ей не на что было покупать себе платья и шляпки и приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бедность. Как нарочно, когда она еще жила в Москве у тетки, к ней сватался некий князь Мактуев, человек богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрез. Но теперь иногда ее мучил червь раскаяния: зачем отказала. Как наш мужик дует с отвращением на квас с тараканами и все–таки пьет, так и она брезгливо морщилась при воспоминании о князе и все–таки говорила мне: – Что ни говорите, а в титуле есть что–то необъяснимое, обаятельное... Она мечтала о титуле, о блеске, но в то же время ей не хотелось упустить и меня. Как там ни мечтай о посланниках, а всё же 7
сердце не камень и жаль бывает своей молодости. Ариадна старалась влюбиться, делала вид, что любит, и даже клялась мне в любви. Но я человек нервный, чуткий; когда меня любят, то я чувствую это даже на расстоянии, без уверений и клятв, тут же веяло на меня холодом, и когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение металлического соловья. Ариадна сама чувствовала, что у нее не хватает пороху, ей было досадно, и я не раз видел, как она плакала. А то, можете себе представить, она вдруг обняла меня порывисто и поцеловала, – это произошло вечером, на берегу, – и я видел по глазам, что она меня не любит, а обняла просто из любопытства, чтобы испытать себя; что, мол, из этого выйдет. И мне сделалось страшно. Я взял ее за руки и проговорил в отчаянии: – Эти ласки без любви причиняют мне страдание! – Какой вы... чудак! – сказала она с досадой и отошла. По всей вероятности, прошел бы еще год–два, и я женился бы на ней, тем и кончилась бы эта история, но судьбе угодно было устроить наш роман по–иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. К брату Ариадны приехал погостить его университетский товарищ Лубков, Михаил Иваныч, милый человек, про которого кучера и лакеи говорили: «за–а– нятный господин!» Этак среднего роста, тощенький, плешивый, лицо, как у доброго буржуа, не интересное, но благообразное, бледное, с жесткими холеными усами, на шее гусиная кожа с пупырышками, большой кадык. Носил он pince–nez на широкой черной тесьме, картавил, не выговаривая ни р, ни л, так что, например, слово «сделал» у него выходило так: сдевав. Он был всегда весел, всё ему было смешно. Женился он как–то необыкновенно глупо, двадцати лет, получил в приданое два дома в Москве, под Девичьим, занялся ремонтом и постройкой бани, разорился в пух, и теперь его жена и четверо детей жили в «Восточных номерах», терпели нужду, и он должен был содержать их, – и это ему было смешно. Ему было 36 лет, а жене его уже 42, – и это тоже было смешно. Мать его, чванная, надутая особа с дворянскими претензиями, презирала его жену и жила отдельно с целою оравой собак и кошек, и он должен был выдавать ей особо по 75 рублей в месяц; и сам он был человек со вкусом, любил позавтракать в «Славянском Базаре» и пообедать в «Эрмитаже»; денег нужно было очень много, но дядя выдавал ему только по две тысячи в год, этого не хватало, и он по целым дням бегал по Моск 8
ве, как говорится, высунув язык, и искал, где бы перехватить взаймы, – и это тоже было смешно. Приехал он к Котловичу, как говорил, для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от семейной жизни. За обедом, за ужином, на прогулках он говорил нам про свою жену, про мать, про кредиторов, судебных приставов и смеялся над ними; смеялся над собой и уверял, что благодаря этой способности брать взаймы он приобрел много приятных знакомств. Смеялся он не переставая, и мы тоже смеялись. При нем и время мы стали проводить иначе. Я был склонен больше к тихим, так сказать, идиллическим удовольствиям; любил уженье рыбы, вечерние прогулки, собиранье грибов; Лубков же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими. Он раза три в неделю затевал пикники, и Ариадна с серьезным, вдохновенным лицом записывала на бумажке устриц, шампанского, конфект и посылала меня в Москву, конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикниках тосты, смех и опять жизнерадостные рассказы о том, как стара жена, какие у матери жирные собачки, какие милые люди кредиторы... Лубков любил природу, но смотрел на нее как на нечто давно уже известное, притом по существу стоящее неизмеримо ниже его и созданное только для его удовольствия. Бывало, остановится перед каким–нибудь великолепным пейзажем и скажет: «Хорошо бы здесь чайку попить?» Однажды, увидев Ариадну, которая вдали шла с зонтиком, он кивнул на нее и сказал: – Она худа, и это мне нравится. Я не люблю полных. Меня это покоробило. Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал: – Что же в том дурного, что я люблю худых и не люблю полных? Я ничего ему не ответил. Потом как–то, будучи в отличном расположении и слегка навеселе, он сказал: – Я заметил, вы Ариадне Григорьевне нравитесь. Удивляюсь вам, отчего вы зеваете. Мне стало неловко от этих слов, и я, смущаясь, высказал ему свой взгляд на любовь и женщин. – Не знаю, – вздохнул он. – По–моему, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, поэтична и возвышенна, но это не значит, что она должна быть вне законов природы. Вы сами видите, она уже в таком возрасте, когда ей нужен муж или любовник. Я уважаю 9
женщин не меньше вашего, но думаю, что известные отношения не исключают поэзии. Поэзия сама по себе, а любовник сам по себе. Всё равно, как в сельском хозяйстве: красота природы сама по себе, а доход с лесов и полей сам по себе. Когда я и Ариадна удили пескарей, Лубков лежал тут же на песке и подшучивал надо мной или учил меня, как жить. – Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без романа! – говорил он. – Вы молоды, красивы, интересны, – одним словом, мужчина хоть куда, а живете по–монашески. Ох, уже эти мне старики в 28 лет! Я старше вас почти на десять лет, а кто из нас моложе? Ариадна Григорьевна, кто? – Конечно, вы, – отвечала ему Ариадна. И когда ему надоедало наше молчание и то внимание, с каким мы глядели на поплавки, он уходил в дом, а она говорила, глядя на меня сердито: – В самом деле, вы не мужчина, а какая–то, прости господи, размазня. Мужчина должен увлекаться, безумствовать, делать ошибки, страдать! Женщина простит вам и дерзость и наглость, но она никогда не простит этой вашей рассудительности. Она не на шутку сердилась и продолжала: – Чтобы иметь успех, надо быть решительным и смелым. Лубков не так красив, как вы, но он интереснее вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он мужчина... И даже какое–то ожесточение слышалось в ее голосе. Однажды за ужином она, не обращаясь ко мне, стала говорить о том, что если бы она была мужчиной, то не кисла бы в деревне, а поехала бы путешествовать, жила бы зимой где–нибудь за границей, например, в Италии. О, Италия! Тут отец мой невольно подлил масла в огонь; он долго рассказывал про Италию, как там хорошо, какая чудная природа, какие музеи! У Ариадны вдруг загорелось желание ехать в Италию. Она даже кулаком по столу ударила и глаза у ней засверкали: ехать! И начались затем разговоры, как хорошо будет в Италии, – ах, Италия, ах да ох – и так каждый день, и когда Ариадна глядела мне через плечо, то по ее холодному и упрямому выражению я видел, что в своих мечтах она уже покорила Италию со всеми ее салонами, знатными иностранцами и туристами и что удержать ее уже невозможно. Я советовал обождать немного, отложить поездку на год–два, но она брезгливо морщилась и говорила: 10