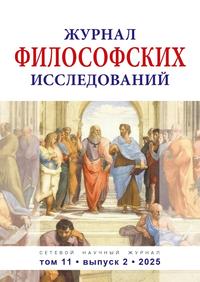Журнал философских исследований, 2025, № 2
Бесплатно
Новинка
Основная коллекция
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Наименование: Журнал философских исследований
Год издания: 2025
Кол-во страниц: 110
Количество статей: 11
Дополнительно
Вид издания:
Журнал
Артикул: 701131.0028.01
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 47.03.01: Философия
- 47.03.02: Прикладная этика
- 47.03.03: Религиоведение
- ВО - Магистратура
- 47.04.01: Философия
- 47.04.02: Прикладная этика
- 47.04.03: Религиоведение
- Аспирантура
- 47.06.01: Философия, этика и религиоведение
- Адъюнктура
- 47.07.01: Философия, этика и религиоведение
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ISSN 2500-0519
ЖУРНАЛ ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сетевой научный журнал
Том 11 ■
Выпуск 2
■
2025
Выходит 4 раза в год
Издается с 2015 года
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации
Эл № ФС77-61322 от 07.04.2015 г.
Издатель:
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96
Факс: (495) 280-36-29
E-mail: books@infra-m.ru
http://www.infra-m.ru
Главный редактор:
Климов С.Н. — доктор философских наук,
заместитель директора академии по учебнометодической работе, Российская открытая
академия транспорта Московского
государственного университета путей
сообщения (РОАТ МИИТ), г. Москва
Ответственный редактор:
Титова Е.Н.
E-mail: titova_en@infra-m.ru
© ИНФРА-М, 2025
Присланные рукописи не возвращаются.
Точка зрения редакции может не совпадать
с мнением авторов публикуемых материалов.
Редакция оставляет за собой право самостоятельно
подбирать к авторским материалам иллюстрации,
менять заголовки, сокращать тексты и вносить в
рукописи необходимую стилистическую правку
без согласования с авторами. Поступившие
в редакцию материалы будут свидетельствовать о
согласии авторов принять требования редакции.
Перепечатка
материалов
допускается
с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на журнал «Журнал
философских исследований» обязательна.
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.
САЙТ: http://naukaru.ru/
E-mail: titova_en@infra-m.ru
СОДЕРЖАНИЕ
Онтология и теория познания
Водолагин А.В.
Воображение и разум в структуре
субъективного духа.
Эпистемологическое прозрение И. Канта
Лебедев С.А.
Научное знание и его структура
Лебедев С.А., Малахов Г.С.
Чувственное познание в науке: предмет,
структура, истинность
Малыгина О.Н., Маль Г.С.,
Симонова Ж.Г.
Этические проблемы использования
методов наблюдения
История философии
Лазарев А.И.
Релятивистский контекст
основного диалектического закона:
историко-философско-языковедческие
аспекты «единства противоположностей»
и «борьбы»
Философия религии и религиоведение
Надеина Д.А., Чекрыгин О.В.
Статичность Абсолюта и процессность
Бога в любви Отца к человеку
Рецензии, аналитика, обзоры
Баянов К.Р.
Рецензия на книгу: Методология науки:
сборник статей (отв. редактор проф.
С.А. Лебедев). М.: Проспект, 2024. - 150 с.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ Климов С.Н. — доктор философских наук, заместитель директора академии по учебнометодической работе, Российская открытая академия транспорта Московского государственного университета путей сообщения (РОАТ МИИТ), г. Москва Коротких В.И. — профессор, кафедра философии и социальных наук, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец Колесов М.С. — доктор философских наук, Севастопольский государственный университет, г. Севастополь Ореховская Н.А. — доктор философских наук, профессор, кафедра социологии и культурологии, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, г. Москва Немировский В.Г. — доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, кафедра социологии, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск Бабинов Ю.А. — доктор философских наук, профессор Севастопольский государственный университет, г. Севастополь Лебедев С.А. — доктор философских наук, профессор, награжден Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в научнопедагогической деятельности, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, г. Москва Майданский А.Д. — доктор философских наук, профессор, кафедра философии, Белгородский государственный университет, г. Белгород Губман Б.Л. — доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и теории культуры, Тверской государственный университет, г. Твер Стамболийски И.Н. — преподаватель, Варненский свободный университет "Черноризец Храбър" Кафтан В.В. — доктор философских наук, доцент, профессор департамента политологии Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва Беляев М.А. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии и социологии, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва Труды молодых ученых Гаргар А.И. Каббала и психология Погорелова И.А. Общенаучная картина мира и методологические функции Казаков З.О. Кризис мужской идентичности в условиях современности: философско-антропологический анализ Маханькова А.В. Существует ли «женская логика»?
Воображение и разум в структуре субъективного духа. Эпистемологическое прозрение И. Канта Imagination and Reason in the Structure of the Subjective Spirit. Epistemological Insight of I. Kant Водолагин А.В. Д-р филос. наук, профессор кафедры истории, философии и социальных наук ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», г. Москва e-mail: aleksandervodolagin@yandex.ru Vodolagin A.V. Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of History, Philosophy and Social Sciences of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Moscow State University of Geodesy and Cartography, Moscow e-mail: aleksandervodolagin@yandex.ru Аннотация В статье обосновано положение о том, что одно из эпистемологических открытий И. Канта связано с установлением конструктивной роли продуктивного воображения на всех уровнях познания «объективной реальности». Это вывело автора «Критики чистого разума» за пределы гносеологии Нового времени в область проблематики фундаментальной онтологии и философии истории, превратив его в центральную фигуру в истории «устремлённого вперёд самосознания» Запада. Кантовская критика «чистого разума» вскрыла несовершенство западного рационализма, показав, что за притязаниями неизбежно впадающего в «трансцендентальные иллюзии» субъекта познания скрывается волящий интеллект, стремящийся к освобождению от каких-либо догматических ограничений и установлению тотального контроля над сущим. Эта выявленная Кантом основная интенция «фаустовского духа» получила дополнительное освещение в трудах Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, Ф. Ницше, О. Шпенглера, М. Хайдеггера и К. Ясперса. Что касается чисто эпистемологической составляющей кантовской теории продуктивного воображения, то она была впоследствии разработана сторонниками «радикального конструктивизма» (Э. Глазерсфельд, У. Матурана, П. Ватцлавик и др.) [19] и в позитивно-диалектической концепции научного познания (С.А. Лебедев) [8, 9, 10]. В связи с этим необходимо подчеркнуть часто упускаемую из виду важную мысль Канта о том, что продуктивное воображение — это не просто познавательная деятельность сознания, а рационально-волевая деятельность субъекта, способ осуществления им. Показано, что осуществлённая И. Кантом критика «чистого разума» и введённый им в эпистемологию новый конструкт «способность сознания к продуктивному воображению» стал очередным проявлением западного «фаустовского духа», во многом определившего основной вектор мировой истории. Ключевые слова: воображение, познание, разум, свобода, воля к власти. Abstract The article substantiates the position that one of the epistemological discoveries of I. Kant, related to the establishment of the constructive role of productive imagination at all levels of cognition of "objective reality". It was led the author of the Critique of Pure Reason beyond the epistemology of Modern times into the field of problems of fundamental ontology and philosophy of history, turning him into a central figure of history "forward-looking self-awareness" of the West. Kant's critique of "pure reason" revealed the inferiority of Western rationalism, showing that behind the claims of the inevitably falling into "transcendental illusions" of the subject of knowledge lies
a volitional intellect striving to free itself from any dogmatic restrictions and establish total control over existence. This basic intention of the "Faustian spirit" revealed by Kant received additional coverage in the works of F. Schelling, G. Hegel, F. Nietzsche, O. Spengler, M. Heidegger and K. Jaspers. As for the purely epistemological component of Kant's theory of productive imagination, it was developed in detail in the modern research of supporters of "radical constructivism" (E. Glazersfeld, U. Maturana, P. Wattslavik, etc.) [18] and the positive- dialectical theory of scientific knowledge (S.A. Lebedev) [7, 8, 9]. In this regard, it is necessary to emphasize Kant's often overlooked idea that productive imagination it is not simply cognitive activity consciousness, but it is the way of subject realizing its strong -willed nature, which cannot be deduced from the lower forms of mental activity of subject. It is shown that the critique of "pure reason" carried out by I. Kant and the new construct "the capacity for productive imagination" introduced by him into transcendental philosophy became expressions of the Western "Faustian spirit", which largely determined the main vector of world history. Keywords: imagination, cognition, reason, freedom, will to power Введение Иммануил Кант (1724-1804) – мятежный ум, инициировавший революцию в способе мышления Нового времени, пытавшийся превозмочь в себе раскол западной научной мысли – противоборство ньютонианства и лейбницианства, веривший в «вавилонскую башню механистического естествознания» (П.А. Флоренский) [15,с.135], противник «беспечного умствования о вещах» [6, с. 96], апостол мыслящего духа, неподвластного ничему, кроме своего внутреннего императива, «закона совершенного, закона свободы» [Иак.1,25], – давно не интересен Западу, трижды отрёкшемуся от Христа и отказавшемуся от идеи свободы, привнесённой в мир христианством (Г. Гегель), создавшему «культуру антихристианскую» (В.С. Соловьев) [12, с.166], блокирующую духовное развитие личности, лишающую её «самозаконной воли», превращающую человеческую жизнь в искание чувственных удовольствий и развлечений. Он же и последний, «замыкающий мыслитель», «завершитель» эпохи Просвещения [30, s.390 – 616], которая на деле была беспросветной Тьмой, не сопоставимой с «утренней зарей» христианского Средневековья, и как таковой все ещё ценится как «фантазёр понятия долга: сенсуалист, скованный догматической избалованностью» [28, s.71]. Вопрос о том, была ли разработанная им «метафизика нравов» последней попыткой западного человека рационально обосновать предписание новозаветного Духа, евангельский «призыв к свободе» [31, s.158] и «абсолютное господство моральных ценностей», или же невнятным предвестием европейского нигилизма, не обсуждается. /О Канте – вслед за Освальдом Шпенглером – пишут, как о великом систематике (Н. Хинске) [18], видя в нем мастера эпистемологического анализа [14, с.130], осуществившего прорыв в области методологии научного познания. В таком освещении великий метафизик представляется столь же безобидной, не внушающей каких-либо идеологических опасений фигурой, как и впавший в детство после срыва в пучину дионисианского имморализма Фридрих Ницше. Иное отношение к Канту сложилось в России. Очевидно, что не кантовский агностицизм пленил П.Я. Чаадаева и А.С. Пушкина, Н.В. Станкевича и М.А. Бакунина, Л.Н. Толстого и А.А. Фета, а также – Ф.М. Достоевского, умолявшего брата Михаила прислать ему на каторгу «Критику чистого разума» и державшего кантовский «трактат о методе» на столе в период работы над своим последним романом. Кант – порождение возрожденческого титанизма (бунтарство против Бога), кенигсбергский духовидец, заглянувший в «трансцендентальную пустоту смерти» (П.А. Флоренский) [15, с. 70], ускоривший, как никто другой, философское пробуждение России. Главная книга его жизни – «Критика чистого разума» (1881) – «жёсткий ломоть», «тяжёлая паутина» (И.Г. Гердер) [5, 131], работа трудная, требующая решительного, вдумчивого читателя – оказывала магическое влияние на создателей великой русской литературы двух минувших столетий,
а её автор не раз напоминал о себе и напрямую, как в стихотворении Александра Блока, уловившего всего лишь одну черту в духовном облике Канта – зеркальную бездонность его глаз, являющую заворожённую самой собой субъективность: Сижу за ширмой. У меня Такие крохотные ножки. Такие ручки у меня, Такое тёмное окошко… Тепло и темно. Я гашу Свечу, которую приносят, Но благодарность приношу. Меня давно развлечься просят. Но эти ручки… Я влюблён В мою морщинистую кожу. Могу увидеть сладкий сон, Но я себя не потревожу Не потревожу забытья, Вот этих бликов на окошке И ручки скрещиваю я, И также скрещиваю ножки. Сижу за ширмой. Здесь тепло. Здесь кто-то есть. Не надо свечки. Глаза бездонны, как стекло. На ручке, сморщенной колечки. Или косвенно – в таких художественно-образных воплощениях кантовской философской антропологии, каковыми стали лермонтовский «Герой нашего времени», «Братья Карамазовы» и «Петербург» Андрея Белого. Явление Канта, по словам Николая Бердяева, – великое, более того, центральное событие в истории европейского сознания [3, с. 168]; вершина «самосознания свободы» [31,s. 158], точка пересечения мышления, идущего от Декарта, и мышления послекантовского (М. Хайдеггер М.) [24,s.334]; [25, s.445-480]. Его суть и ощутимое до сих пор многообразие духовно-исторических последствий связаны не столько с приписываемым Канту «учением о непознаваемой вещи в себе» (а ведь последняя, по Канту, все же может быть познана человеком, правда, не теоретически, а лишь в обход «чистого разума», духовно-практически – в Боге ), сколько с непревзойдённой, эффектной и сокрушительной самокритикой фаустовского человека, возомнившего себя со времени Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта мастером своей судьбы, кузнецом собственного счастья, господином и владетелем природы. Не будем забывать о том, что его прообраз – легендарный чародей, «философ философов», магистр Фауст-чернокнижник, романтизированный Гете и облагороженный Шпенглером, – был некогда хищным типом, «распутным слугой дьявола», удачливым прохвостом, авантюристом и мастером выманивания денег «своими мошенническими фокусами» [11, c. 9-28]. Но ведь все это – характеристики отнюдь не чистого, неумолимого в своих требованиях к падшему человеку западного разума. Да и существует ли в действительности описанный Кантом «чистый разум»? – вопрошал священник Павел Флоренский, обращая внимание на «доселе тёмное рождение «Критики чистого разума»» [15, с. 21]. Решительный отказ Канта от догматической метафизики, вещавшей о Боге и бессмертии души, о мире в целом и человеческой свободе , не вёл автоматически к радикальному обновлению языка философской мысли об этих высших предметах человеческого разума, каковые «вовсе не могут быть даны в опыте» и, по сути, никакими вещами не являются, о чем напоминал своему другу Льву Толстому знаток немецкой метафизики Афанасий Фет. Не секрет, что за неуклюжим кантовским термином вещь в себе скрывается свободная воля, и если таковой не существует (как утверждал так и не излечившийся от махизма
Альберт Эйнштейн), то нет ни человека, ни раскрывающего в его «чистом разуме» (= евангельском «чистом сердце») свою волевую природу Бога (Ф. Шеллинг) [20, c.130], [4]. В этом кантовском понимании бытия как свободной воли, полагающей самое себя и вместе с тем свою противоположность – «объективную реальность» [26, s.445-480] самонадеянный люциферианский дух Запада достиг кульминационной точки в развитии своего устремленного вперед самосознания, в постижении «тайны мировой истории» как победы субъективного над объективным [20,c.154]. Истолковывая познаваемую математическим естествознанием «объективную реальность» как продуцируемую волящим интеллектом «картину мира», Кант дерзко заявил о себе в качестве предтечи конструктивизма в философии и методологии науки [8]. Обилие стереотипов вещного, субъектно-объектного, дихотомического теоретизирования в кантовском паутиноподобном трактате создавало специфические «трудности и неясности, способные привести к различным недоразумениям», мешавшие пониманию его новаторского философского содержания, не сводимого к привычному схоластическому набору сомнительных утверждений о вещах божественных и человеческих. «Недаром Шопенгауэр понял его только при 8 чтении» [13, c.14], – говорил Фет. Возобновив идущую от Аристотеля деятельностную трактовку человеческой психики, с присущей ей творческой силой воображения [1, c.430-432], Кант все же не аннулировал полностью картезианское представление о душе как «вещи мыслящей», из-за чего уже в своём посмертном существовании оказался под ударом гегелевской феноменологии духа. Изображая человеческую психику в качестве пробуждающегося, обретающего сознание «природного духа», Гегель совершенно верно, вполне по-кантовски оценил роль продуктивного воображения в осуществляемой волящим интеллектом экспансии по отношению к реальности [23, s. 262 – 277]. Направленность же того волевого напора, который скрывался за подстёгивающей «чистый разум» игрой воображения, был окончательно определён Фридрихом Ницше: воля к власти. Издревле настроенная на владычествование и обладание Землей, нацеленная на захват и использование всего сущего «до полного израсходования» (М.Хайдеггер), падшая фаустовская душа Запада «ошалела» от иллюзорных представлений о беспредельной и бесконтрольной мощи своего «чистого разума» (= сократического начала, даймона), вообразив себя орудием воли Божьей, а на деле встав на путь люциферианского противоволения. «Эта самоуверенность и самоутверждение человеческого разума в жизни и знании есть явление ненормальное, – отмечал Владимир Соловьев, – это есть гордость ума, и западное человечество в протестантстве и вышедшем из него рационализме подпало второму искушению» [12, с.163], т.е. рискнуло испытать могущество и долготерпение Господа Бога своего. Этот вышедший из протестантства рационализм представляет собой зловещий симптом «бытийной оставленности» западного человека, его приверженности «роковому нигилизму» под маской христианства [25, s. 139 – 140]. И вот главное, опережающее эпоху прозрение Канта, положившее начало его критическому натиску на стремящуюся к планетарному господству западную рациональность, состояло в установлении определяющей роли продуктивного воображения, окутывающего «чистый разум» напористого субъекта априорного познания пеленой «трансцендентальных иллюзий», заблуждений и фикций – «фаустовских мыслей» (О. Шпенглер), искажённых, неадекватных представлений о самом себе и «объективной реальности». Вслед за Якобом Беме, видевшим в воображении ядовитое, греховное начало души, приоткрывающее субъекту «самовластного и гордого разума» хаос всевозможного [2, с. 95], Кант связывал «странную судьбу» выходящего за пределы опыта чистого разума с игрой человеческого воображения [6, c. 73]. В ходе разработки второй части «Бытия и времени»[22,s.42.) Хайдеггер правильно определил функцию кантовской «трансцендентальной способности воображения» как единого корня теоретического и практического разума, выводящей субъекта за границы
чувственно воспринимаемой реальности в сферу возможного и конструирующей «горизонт, внутри которого действует познающая “самость”» [14,с.89], [24,273-276]. Таким образом, в своей высоко оценённой и неокантианцами теории воображения [11, с.131] Кант вскрыл источник крайне агрессивной и опасной для планеты западной рациональности, представляющей собой патологическую форму мироориентации и самоутверждения субъекта работающей и вожделеющей «воли к власти», осуществляющего «нападение на сущее», планирующего установление тотального контроля над всякой живою душой на Земле. Эта открытая Кантом «нечистая сила» западного вожделеющего самосознания – продуцирующая слепящие, гибельные иллюзии (включая и фантом времени) [17,с.332], «трансцендентальная способность воображения», точнее, воображающая, фантазирующая, постоянно что-то изобретающая и позволяющая себе все воля – увязывалась в сознании последних метафизиков Запада, какими были, Фридрих Шеллинг и Фридрих Ницше, с символической фигурой архаического мифосознания: безжалостным Аполлоном-губителем – воплощением «сокрытого в бездне человеческой души искусства»[22, s. 190], погружающего человечество то в утешительные, то в жуткие грёзы (Кант не сомневался в «необходимости грез» для субъекта, овладевающего объективной реальностью)[7,559]. «И как раз оттого, что противоположности соприкасаются и указывают на некую возможную общность в последних глубинах бытия, мы находим в западной, фаустовской душе это ностальгическое взыскание идеала аполлонической души…» [21, с.232] – какой-то скрытой «мировой гармонии», «вечного мира» или мертвящего «мирового порядка». Кант, по версии П.А. Флоренского, «указал, что в разуме нашем есть трещины, что рационализм сам в себе разлагается» [16, с. 405]. И разлагается, видимо, под действием не контролируемых рациональной критической рефлексией сущностных сил человеческой природы – аполлонической и дионисийской, что было подтверждено шеллинговой «Философией откровения», юнгианским психоанализом и «Общей психопатологией» Карла Ясперса. Литература 1. Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т. 1. М., 1975. 2. Беме Я. Истинная психология, или сорок вопросов о душе. СПб., 1999. 3. Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. М. 1995. С. 168. 4. Водолагин А.В. Метафизика воли. Волюнтаристическая традиция в истории западной философии. М. – Спб., 2012. 5. Гулыга А.В. Кант. М., 1977. 6. Кант И. Соч. в шести томах. Т. 3. М., 1964. 7. Кант И. Из рукописного наследия (материалы к «Критике чистого разума»). М., 2000. 8. Лебедев С.А. Современная философия науки. М., 2024. 9. Лебедев С.А. История философии науки // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2009. №1. С. 5–66. 10. Лебедев С.А. Конструктивистская концепция научного познания// Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2023. № 2. 5–14. Легенда о докторе Фаусте. М., 1978. 11. Соловьев В.С. Полн. собр. соч. и писем в двадцати томах. Т. 4. М., 2011. 12. Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. В двух томах. Т. 2. М., 1978. С. 14. 13. Фауст и Заратустра. СПб., 2001. С. 130. 14. Флоренский П.А. Соч. в 4-х т. Т. 2. М., 1996. 15. Флоренский П.А. Соч. в 4-х т. Т. 3 (2). М., 2000. 16. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. 223. 17. Хинске Н. Между Просвещением и критикой разума: этюды о корпусе логических работ Канта. М., 2007. 18. Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. М., 2000.
19. Шеллинг Ф.В.Й. Система мировых эпох. Томск, 1999. С. 130. 20. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. М., 1993. 21. Биемель В. Мартин Хайдеггер. Гамбург, 1993. 22. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. III. Франкфурт-на-Майне, 2012. 23. Хайдеггера М. 24-й семинар Золликона. Франкфурт-на-Майне, 2006. 24. Хайдеггер М. Полное издание. Том 65. Вклад в философию (О событии). Франкфурт-на-Майне, 2003. 25. Хайдеггер М. Путевые знаки. Франкфурт-на-Майне, 2004. 26. Кант И. Критика чистого разума. Франкфурт-на-Майне, 1974. 27. Ницше Ф. Воля к власти. Штутгарт, 1996. 28. Пайен Г. Хайдеггер. Биография. Дармштадт, 2022. 29. Ясперс К. Великие философы. Мюнхен, 2012. 30. Ясперс К. Философия. III. Метафизика. Берлин. Гейдельберг. Нью-Йорк, 1973.
Научное знание и его структура Scientific knowledge and its structure Лебедев С.А. Д-р филос. наук, профессор кафедры философии, ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет), г. Москва e-mail: saleb@rambler.ru Lebedev S.A. Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of Philosophy, Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow e-mail: saleb@rambler.ru Аннотация В статье описывается и анализируется плюралистичная и гетерогенная структура научного знания: ее культурно-исторические типы науки, области научного знания, уровни научного знания. Показывается их единство в общей системе научного знания. Оно обеспечивается двумя главными факторами: соответствием общим требованиям научной рациональности и интерпретационными связями между различными единицами научного знания. Ключевые слова: научное знание, структура научного знания, научная рациональность, научная интерпретация. Abstract The article describes and analyzes the pluralistic and heterogeneous structure of scientific knowledge: cultural and historical types of science, fields of scientific knowledge, levels of scientific knowledge, types of scientific knowledge. Their unity in the general system of scientific knowledge is shown. It is provided by two main factors: their compliance with the general requirements of scientific rationality and a system of interpretative links between different taxa and units of scientific knowledge. Keywords: scientific knowledge, structure of scientific knowledge, scientific rationality, scientific interpretation. Введение Научное знание представляет собой огромную по размерам и сверхсложную по структуре систему, основными элементами которой являются разные культурно-исторические типы науки, области науки, уровни научного знания и виды научного знания. Несмотря на качественное разнообразие научного знания, оно, тем не менее, едино, так как все его элементы: а) удовлетворяют общим критериям научной рациональности, б) связаны между собой системой интерпретационных связей. Общими требованиями рациональности к любой единице научного знания являются: объектность, определенность, проверяемость, обоснованность, доказательность, общезначимость. Наличие каждого из этих свойств является необходимым, а всех вместе – достаточным условием научного знания и критерием его отличия от других видов человеческого знания (обыденное, практическое, мифологическое, художественное, религиозное, средства массовой информации и др.). Описание и анализ структуры научного знания целесообразно начать с самого крупного его таксона: культурно-исторического типа науки.
Культурно-исторические типы науки В своем историческом развитии наука прошла ряд этапов, которые характеризовались разным пониманием ее задач, функций, способов получения и обоснования научного знания, взаимоотношения с обществом и культурой. В современной истории и философии науки выделяют шесть качественно различных состояний эволюции науки в целом и ее культурно-исторических типов: − древняя восточная наука; − античная наука; − средневековая наука; − классическая наука; − неклассическая наука; − постнеклассическая наука. Каждый культурно-исторический тип существенно отличается от всех других не только содержанием научного знания, но и своеобразием своего методологического инструментария и философских оснований. Например, древняя восточная наука характеризуется следующими основными чертами: непосредственная связь с практическими потребностями общества и их обслуживанием, эмпиричность процесса познания, рецептурный и догматичный характер знания, сакрально-кастовая организация научной деятельности, закрытость научного сообщества. В 7 веке до н.э. на территории Древней Греции случилась первая глобальная научная революция, результатом которой было возникновение и последующее развитие нового культурно-исторического типа науки - античной науки. Ее основные черты были диаметрально противоположны восточной науке. Это: созерцательность процесса познания, теоретичность и логическая доказательность научного знания, относительная самостоятельность науки и ее независимость от непосредственных практических потребностей общества, критичность научных исследований и рефлексивный характер полученных знаний, их открытость для изменения и улучшений, демократичность научных сообществ. Благодаря этим особенностям, античной науке удалось совершить огромный всемирноисторический прорыв в развитии науки. Многие ее достижения вошли в золотой фонд человеческой культуры : создание теоретической философии и большинства ее направлений, создание логически доказательной математики, в частности, геометрии Эвклида, создание формальной логики как инструмента логического доказательства, создание научной системы астрономии, создание физики как общего учения о природе и ее законах, создание гуманитарных наук: истории, политики, юриспруденции, искусствознания и др. Античная наука просуществовала в качестве культурно - исторического типа вплоть с 7 века до н.э. до 3 века н.э. Ей на смену пришел средневековый тип науки, воплотивший в своих главных особенностях потребности функционирования и развития, возникшей в Западной Европе религиозной цивилизации, основу которой составило христианство. Наука в средние века не прекратила своего существования, однако она вынуждена была функционировать и развиваться в контексте господствующих в обществе религиозных ценностей и религиозного образа жизни. Характерными чертами средневековой науки стали: теологизм, телеологизм, схоластичность, антропологизм, герменевтический метод, религиозный догматизм. Наука средних веков достигла существенных результатов в области гуманитарных исследований: логики, риторики, герменевтики, языкознания, философии и др. Вместе с закатом средневековой цивилизации, в Европе 17 века произошла очередная глобальная научная революция, ознаменовавшаяся возникновением классической науки. Ее главные черты и особенности: светский характер научной деятельности, экспериментальный метод, математический язык, практическая направленность, эмпирическая обоснованность знания, критический дух научного познания, демократизм, открытость к изменениям, оформление науки в качестве одного из социальных институтов общества. Классическая