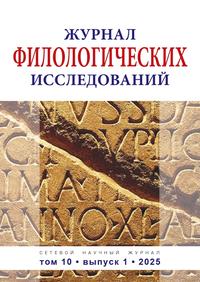Журнал филологических исследований, 2025, № 1
Бесплатно
Новинка
Основная коллекция
Тематика:
Филологические науки
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Наименование: Журнал филологических исследований
Год издания: 2025
Кол-во страниц: 72
Количество статей: 6
Дополнительно
Вид издания:
Журнал
Артикул: 701144.0027.01
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 45.03.01: Филология
- 45.03.02: Лингвистика
- 45.03.03: Фундаментальная и прикладная лингвистика
- 45.03.04: Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
- 45.04.02: Лингвистика
- 45.04.03: Фундаментальная и прикладная лингвистика
- 45.04.04: Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
- ВО - Специалитет
- 45.05.01: Перевод и переводоведение
- Аспирантура
- 45.06.01: Языкознание и литературоведение
- Адъюнктура
- 45.07.01: Языкознание и литературоведение
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ISSN 2500-0519
ЖУРНАЛ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сетевой научный журнал
Том 10 ■
Выпуск 1
■
2025
Выходит 4 раза в год
Издается с 2016 года
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации
Эл № ФС77-63239 от 06.10.2015 г.
Издатель:
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96
Факс: (495) 280-36-29
e-mail: books@infra-m.ru
http://www.infra-m.ru
Ответственный редактор:
Титова Е.Н.
e-mail: titova_en@infra-m.ru
© ИНФРА-М, 2025
Присланные рукописи не возвращаются.
Точка зрения редакции может не совпадать
с мнением авторов публикуемых материалов.
Редакция
оставляет
за
собой
право
самостоятельно
подбирать
к
авторским
материалам иллюстрации, менять заголовки,
сокращать тексты и вносить в рукописи
необходимую
стилистическую
правку
без
согласования
с
авторами.
Поступившие
в редакцию материалы будут свидетельствовать
о
согласии
авторов
принять
требования
редакции.
Перепечатка
материалов
допускается
с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на журнал «Журнал
филологических исследований» обязательна.
Редакция
не
несет
ответственности
за
содержание рекламных материалов.
САЙТ: http://naukaru.ru/
E-mail: titova_en@infra-m.ru
СОДЕРЖАНИЕ
Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное
языкознание
Титова Е.Н., Лазарев А.И.
Метафора «борьба» в законе
«единство противоположностей»: технологии
компьютерной и когнитивной лингвистик
в исследовании философских текстов
Лазарев А.И.
Инструменты компьютерной и когнитивной
лингвистик в декодировании
фразеологизмов: на примере паремии
«в споре рождается истина»
Шарнин М.М., Калинин С.С.
Анализ тональности текстов на основе
словарей: текущие и будущие тенденции
по данным PubMed
Маклер А.Г.
Обзор научных концепций познания языка
в философии
Андреев Н.В., Смирнова А.Г.
Теология Майстера Экхарта и её влияние
на развитие немецкого языка в 14 веке
Козьякова Н.С.
Домострой как иллюстрация семейной
жизни на примере повести о Петре
и Февронии Муромских
Метафора «борьба» в законе «единство противоположностей»: технологии компьютерной и когнитивной лингвистик в исследовании философских текстов Metaphor "struggle" in the law "unity of opposites": methods of computer and cognitive linguistics in the study of philosophical texts Титова Е.Н. Канд. пед. наук, ответственный редактор, ООО «Научно-Издательский Центр ИНФРА-М», г. Москва e-mail: titova_en@infra-m.ru Titova E.N. Candidate of Pedagogical Sciences, Executive Editor, Academic Publishing House INFRA-M LLC, Moscow e-mail: titova_en@infra-m.ru Лазарев А.И. Учредитель историко-филологического Фонда поддержки преподавателей «Филологические Записки» А. А. Хованского, г. Воронеж e-mail: xovansky_fond@inbox.ru Lazarev A.I. Founder of the Historical and Philological Fund for the Support of Teachers Philological Notes A. A. Khovansky, Voronezh e-mail: xovansky_fond@inbox.ru Аннотация На примере исследования обстоятельств инкорпорации метафоры «борьба» в классический закон «единства противоположностей» в предлагаемой читательскому вниманию статье показано, как технологии компьютерной и когнитивной лингвистик помогают интенсифицировать исследования философских текстов и получать таким образом труднодостижимые в философии, отдельно от грамматики, результаты. С помощью киберлингвистических инструментов и составленных ими графиков определяется период «модернизации» классического закона, а также первых появлений его метафоризированной версии в профильной литературе; при этом вместе с тематическим моделированием текстов осуществляются частотный и коллокативный анализы, позволяющие выяснять частоту и сочетаемость терминов с доминирующими темами и т.п. Когнитивистские исследования проблемы продемонстрировали преимущества, специфику и риски, связанные с использованием метафор не только в научных текстах, но и в больших языковых моделях (LLM) искусственного интеллекта. Ключевые слова: метафора «борьба», киберлингвистика, когнитивистика, большие языковые модели (LLM), искусственный интеллект, софизм, диалектика, единство противоположностей, закон, истина.
Abstract On the example of the study of the circumstances and prerequisites for the incorporation of the metaphor "struggle" into the classical law of the "unity of opposites", the article shows how the technologies of computer and cognitive linguistics help to intensify the study of philosophical texts and thus obtain results that are difficult to achieve separately in philosophy. With the help of cyberlinguistics tools and graphs compiled with their help, the period of "modernization" of the classical law and the first appearances of its "new synthesized version" in specialized literature are determined, and together with thematic modelling of texts, frequency and collocative analyses are carried out, allowing us to find out the frequency and compatibility of terms with dominant topics, etc. Cognitivist studies of the problem have demonstrated the advantages, specificity and risks associated with the use of metaphors not only in scientific texts, but also in large language models (LLM) of artificial intelligence. Keywords: metaphor "struggle", cyberlinguistics, cognitive science, large language models (LLM), artificial intelligence, sophism, dialectic, unity of opposites, law, truth. Введение Стремительный прогресс информационных технологий последних лет предоставил исследователям немыслимые ранее возможности в фактологическом и содержательном изучении текстовых источников. Возникшая на стыке языкознания, математики, информатики и искусственного интеллекта такая междисциплинарная область, как компьютерная лингвистика, занимающаяся моделированием владения естественным языком (Natural Language Processing, NLP) и решением прикладных задач автоматической обработки больших языковых моделей (Large Language Model, LLM), позволяет теперь при помощи своих инструментов следующее: распознавать специфические особенности имён (идентифицирует и классифицирует именованные в тексте сущности); определять эмоциональную окраску и тональность текста для анализа общественного мнения и настроения (положительную, отрицательную или нейтральную); а также осуществлять автоматическое извлечение структурированной информации из текстов для последующего анализа, контекстуального использования и т.п. Эти и другие технологии киберлингвистики, а также достижения когнитивистики дают возможность получать новые результаты не только в языкознании и литературоведении, но и в истории науки и философии. В качестве красноречивого примера применения новейших технологий в изучении истории философии можно привести анализ обстоятельств и предпосылок появления метафоры «борьба» как дополнительного третьего элемента в законной диалектической паре «единство противоположностей». При этом межпредметный характер исследования позволяет не только уточнить время появления метафоры «борьба» в классической формуле, но и вычислить изменение частотности её употребления в текстах в связи политико-социальным контекстом. Побудительным мотивом к написанию этой статьи стал ряд научных публикаций последних лет, авторы которых, являясь профессиональными философами и поэтому не используя лингвистических инструментов, пытались уточнить время и условия появления метафоры «борьба» в формуле закона «единство противоположностей» (радикально изменившем таким образом своё содержание), однако так и не смогли найти ответы на все поставленные вопросы, выразив всё же при этом скептические соображения об аутентичности формулы «основного диалектического закона» [25; 42]. Таким образом, одной из задач этого междисциплинарного исследования стало выяснение точного периода внедрения метафоры в философский закон, а также смысла этой «инновеллы» и её цели. Для выяснения времени появления формулы «единство и борьба противоречий» в русском, а заодно и в немецком и английском языковых корпусах были проведены исследования панхронических конкордансов, служащих действенным ресурсом для изучения языка как динамической системы и позволяющих извлекать данные о том или ином термине из всех исторических периодов, представленных в том или ином корпусе; с указанием фрагментов текстов, где они встречаются и как употребляются в разных ситуациях и эпохах;
включая и метаданные – информацию о времени создания текста, авторе, жанре, что существенно облегчает и совершенствует историко-лингвистический анализ [39]. Помимо национальных корпусов были проведены исследования и с применением поискового сервиса Google Books Ngram Viewer – метафорически говоря – машины времени для лингвистов, историков и всех, кто интересуется связью языка и культуры, позволяющей на основе корпуса оцифрованных книг (40 млн) анализировать частоту употребления слов, фраз или комбинаций слов (n-грамм) в текстах, опубликованных с XVI в. до 2020 г., а также строить на этом основании графики, не объясняющие однако причины изменений (для этого требуется дополнительный анализ). Например: сравнение употребления слов революция и эволюция с 1800 по 2020 г. Рис. 1. «Революция» и «эволюция» в русскоязычных текстах с 1800 по 2020 г. Осуществленные в настоящем труде компьютерные исследования текстов в панхроническом конкордансе Национального корпуса русского языка (НКРЯ), а также в поисковом сервисе Google Books Ngram Viewer на русском языке, показали, что, с учётом погрешности, в отечественной литературе синтагма «единство и борьба противоположностей» впервые появляется в источниках не раньше конца 20-х годов ХХ в. Рис. 2. «Закон единства и борьбы противоположностей» в русскоязычных текстах с 1800 по 2020 г. Запрос о ключевой в нашем исследовании синтагме на немецком языке «Einheit und der Kampf der Gegensätze» показал ещё более поздний временной период: эта формулировка обнаруживается лишь во второй половине 40-х годов ХХ в. Здесь, однако, надо заметить, что компьютерное исследование текстов К. Маркса и Ф. Энгельса на немецком серьёзно осложнено тем обстоятельством, что их оригиналы находились на спецхране
в ИМЭЛ, с тех пор как в 20-30-х советским правительством были выкуплены из Европы все подлинные тексты классиков, включая черновики, письма и т.п. [15]. Рис. 3. «Einheit und der Kampf der Gegensätze» в немецкоязычных текстах с 1800 по 2020 г. Запрос на поиск аутентичной формулировки закона «Unity and Conflict of opposites» в англофонной литературе дал ссылки на тексты уже 50-х годов ХХ в. Между тем, как показывает график и это необходимо отметить, интерес к этой формуле в англоязычных текстах резко вырос к началу 20-х годов ХХI в., что не может не вызывать беспокойства. Рис. 4. «Unity and Conflict of opposites» в англоязычных текстах с 1800 по 2020 г. Полученные в результате исследований сведения с указанием фрагментов в текстах разных временных этапов (вместе с информацией о времени создания текста, авторе и жанре), существенно помогли выявить период и конкретные источники, свидетельствующие об «импликации» в философский нарратив метафоры «борьба» в связи диалектическим законом «единство противоположностей». Ключевыми источниками для отслеживания этого процесса стали отсканированные подшивки «Вестника Коммунистической академии», а также журналов «Большевик», «Под знаменем марксизма» и «Воинствующий материалист», страницы которых освещают сопутствующий политико-социальный и научно-исторический контекст. В журналах прослеживается не только эпоха формирования метафоризированной версии этого «синтетического закона», но попытки обоснования и обстоятельства присвоения его авторства классикам марксизма-ленинизма вкупе с Г.В.Ф. Гегелем, отдельное компьютерное исследование текстов которого показало, что в его трудах формула «единство и борьба противоречий» отсутствует напрочь (что в равной мере относится и к трудам К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина). Как показали традиционные исследования «Вестника Коммунистической академии» (официального печатного органа институции, учрежденной в 1918 г. в противопоставление Императорской академии как Социалистическая академия,
из недр которой впоследствии вырос Институт философии академии наук СССР), в статьях сотрудников тогда ещё философской секции метафора «борьба» в формуле диалектического закона «единство противоположностей» до 1930 г. не встречается. Наоборот, начиная с 1925 г. (после публикации в журнале «Большевик» черновика ленинских заметок «О диалектике», где слово «борьба» в диалектическом контексте взято в кавычки, «с целью избежать антропоморфизации естественных явлений») [23], в академическом вестнике повсеместно обнаруживается лишь классическая форма «единство противоположностей», хотя уже тогда получивший от самого Ленина «благословение» на развитие советской философии А.А. Деборин программно обозначил и вектор, и ключ к её развитию: «Диалектическое понимание развития – как борьбы противоречий – Ленин называл жизненным, богатым, полным. Только оно «дает ключ к самодвижению» всего сущего, только оно дает ключ «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к «уничтожению старого и возникновению нового». Между тем сам Деборин в своих трудах неоднократно повторяет, что в основе теоретической физики должно быть положено прежде всего учение о единстве противоположностей, о взаимном их проникновении: «Это требование не является результатом вымысла досужего философа; вся эмпирическая физика, можно сказать, проникнута насквозь «тождеством противоположностей», но это не осмыслено. <…> Нет ни одного конкретного понятия в физике, которое не явилось бы выражением единства противоположностей» [6]. Примечательно, что Деборин в своих трудах «Ленин – воинствующий материалист» (1924) [9] и «Ленин – революционный диалектик» (1925) [6], вышедших в свет сразу после смерти вождя мирового пролетариата, ни разу не инкорпорирует метафору «борьба» в сам закон «единства противоположностей». Во второй половине 1920-х на страницах «Вестника» общезначимым началом познания остается всё тот же исторический закон, закон движения путем противоречий [40]. При этом характер взаимопроникновения противоположностей, частным случаем которого является «взаимное проникновение теории и практики», далеко не всегда имеет деструктивный характер [28]. Наоборот, в статье о «Проблемах диалектического развития искусства» В. Фриче отмечает, что «момент гармоничного сочетания формы и содержания есть момент наивысшего развития искусства данной художественной эпохи» [44]. Апологизация и онтологизация «новой формы единства противоположностей» и её отождествление с «борьбой противоречий» как обоснованием материалистической диалектики, а также первые попытки подготовить философское сообщество к принятию революционной трактовки «основного диалектического закона», очевидно, начинаются в Коммунистической академии только в статье учёного секретаря философской секции И.П. Подволоцкого (впоследствии ректора Воронежского госуниверситета), посвященной исследованию «Ленинского конспекта «Науки логики» и проблем материалистической диалектики», где автор, повторяя словно мантру классическую формулу, высказывает следующие суждение и факты: «Категории сущности относительны, каждая из них нераздельно связана со своей противоположностью. <…> Единство противоположностей является общей формой всех отношений сущности, <…> всех связей действительности. <…> Только познание единства противоположностей и противоречия дает понимание самодвижения, развития, самоотрицания, перехода в противоположность, т.е. перехода в новую форму. <…> . В понимании принципа единства противоположностей лежит основной водораздел между диалектикой и формальной логикой. Именно здесь Гегель дает основной бой формальной логике и поражает ее в самое сердце, доказывая несостоятельность ее принципов. <…> Единство противоположностей является основным законом диалектики, принципом построения диалектической логики и всякой науки вообще. <…> Ленин с особенной силой подчеркивает, что единство противоположностей есть основной закон движения и, следовательно, основной закон диалектики. Ленин не просто сопоставляет законы и категории диалектики, он подчиняет их закону единства противоположностей. <…> Вкратце диалектику
можно определить как учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики. <…> «Диалектика, – пишет Ленин, – есть учение о том, как могут быть и как бывают (как становятся) тождественным противоположности, – при каких условиях они бывают тождественны, превращаясь друг в друга», – почему ум человека не должен брать эти противоположности за мертвые, застывшие, а за живые, условны, подвижные, превращающиеся одна в другую. <…>. Истинные противоположности существуют в единстве, и только в своем единстве и деятельной связи они и являются противоположностями. Единство противоположностей выступает как противоречие. Противоречие является деятельной формой связи противоположностей. <…> Ленин подчеркивает оба момента: раздвоение единого и объединение раздвоенного, как неразрывные моменты диалектического движения, как единство объективно происходящих анализа и синтеза в самодвижении. <…>. Чем сильнее происходит процесс раздвоения противоречивого единства на противоположные моменты, тем деятельнее обнаруживается их связь и единство, на основе которого возникают новые формы единства противоположностей. Так происходит развитие противоречивого единства. И далее: «развитие, – пишет Ленин, – есть «борьба» противоположностей… раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношения между ними». <…>. [Т.о.] Ленин не просто перечислил и сопоставил три основных диалектических закона, но соподчинил их закону единства противоположностей, которое является общей формой всех связей действительности. Излагая элементы диалектики, Ленин поставил единство противоположностей в центре, более того, он пишет, что «переход количества в качество и vice versa», а также «борьба содержания с формой и обратно» и «сбрасывание формы и переделка содержания» – «суть примеры» единства противоположностей. Равным образом все последующие категории сущности суть конкретные формы единства противоположностей» и т.п. [33]. Однако до «новой формулировки» ни в этой, ни в других публикациях 1929 г. у Подволоцкого дело так и не дошло, хотя ему и удалось онтологизировать ленинскую идею соподчинения диалектических законов единству противоположностей и предопределить неизбежность «взрыва данной формы и переходу к новой форме единства противоположностей» [34]. Между тем в следующем номере «Вестника Коммунистической академии» в статье «О работах Ленина по философии» В.В. Адоратский специально отмечал, что «характерная черта ленинского определения диалектики» проявляется в совпадении (у Энгельса в «Диалектике природы» и у Ленина в конце конспекта гегелевской «Науки логики») «понимания сущности диалектического метода» и его формулы – «единство противоположностей», представляющей собой «ядро диалектики» [1]. Другим источником, подтверждающим, что формулировка закона «единства и борьбы противоположностей» появилась не раньше 1930 г., можно назвать «Очерк по развитию диалектического метода в новейшей философии от Канта до Ленина «Диалектический материализм и логика» В.Ф. Асмуса («несомненно наиболее серьезной из работ представителей современной официальной русской философии» [36]), где о диалектических законах в известной позднее форме речь не заходит вовсе [3]. Несмотря на критику этого труда в зарубежной русской философии (вместе с признанием достоинств), в контексте этой статьи монографию В.Ф. Асмуса можно считать более чем авторитетным источником, учитывая тот факт, что её автор был первым в СССР доктором наук, защитившим диссертацию по специальности «философия». О времени появления формулировки закона как «единства и борьбы противоположностей» в трудах деятелей официальной советской государственной философии можно судить и по ряду публикаций в современных этому процессу русскоязычных изданиях за авторством эмигрировавших независимых отечественных философов, отмечавших, что в тот период, следуя «водительству заранее признанных норм», под именем философии была монопольно-признана «странная смесь из обмана, самообмана, безграмотности и иногда даже из обрывков действительной науки, отданных уродливым её жрецам на служение невежеству и обману» [36]. Эту и подобную ей резкую критику можно найти в ряде критико-библиографических статей Д.И. Чижевского в парижском журнале
«Современные записки», посвященных обзору творческой активности советских философов: в статьях «Философские искания в Советской России» (1928) и «Кризис советской философии» (1930); в рецензии на сборник «Теория равновесия и материалистическая диалектика» (1930), а также в статье Н.А. Бердяева «Генеральная линія совѣтской философіи и воинствующій атеизмъ» в журнале «Путь» (1932). Лишь в апреле 1931 г. в зареферированной младшим научным сотрудником философской секции В.К. Брушлинским и опубликованной в «Вестнике Коммунистической академии» стенограмме прений к докладу П.Л. Кучерова «Ленин и теория познания Плеханова», в одном из комментариев А.А. Ческиса (автор двух монографий по истории материализма: «Людвиг Фейербах – философ воинствующего материализма» [45] и «Томас Гоббс, родоначальник современного материализма» [47]), прозвучала (едва ли не как «оговорка по Фрейду») формулировка принципа единства и борьбы противоположностей как основного закона развития природы и общества: «Ведь в том, что Ленин выдвигает этот закон единства и борьбы противоположностей в качестве основного закона, он идет гораздо дальше других. Это объясняется главным образом тем, что Ленин чувствовал революционный смысл этого закона и революционный характер материалистической диалектики. Этот революционный дух материалистической диалектики проходит красной нитью через все работы Ленина. Пишет ли он прямо о диалектике или же ни одним словом даже не упоминает о ней, она сквозит в каждой статье Ленина, во всех его 27 томах. Ленин действительно осуществлял на практике революционную материалистическую диалектику. Эта диалектика была им осуществлена на деле в руководстве пролетарской революции» [46]. Кстати заметить, в этом же комментарии Ческис заодно «подтасовал» и источники «основного диалектического закона», метафорически говоря, отлив пулю, что «действительные образцы революционной материалистической диалектики можно найти в работах Маркса, Энгельса и Ленина» (если и не буквально, то между строк), что впоследствии стало общим местом в «апологетике» диамата. Хронологической достоверности ради необходимо упомянуть и о развернувшихся в стенах Комакадемии (18-20 октября 1930 г.) прениях к докладам В.П. Милютина и А.М. Деборина «О разногласиях на философском фронте», где в одной из реплик учёного секретаря Института философии Комакадемии К.К. Милонова уже высказывалась подобная идея: «Если Ленин неоднократно подчеркивает, что диалектику можно было бы кратко определить как единство противоположностей, подчеркивает, что «универсальная» гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей, – вот в чем суть (дальше он разграничивает диалектику от философии и эклектики), если Ленин везде подчеркивает, что раздвоение единого, борьба противоположностей и их синтез есть суть, есть основной закон диалектики» [30]. Ключевое же содержание разногласий на «философском фронте» о принципах «модернизации» диалектического закона с целью засвидетельствования движения и развития в самом законе можно передать, используя буквальные выражения представителей противоположных сторон в прениях на предмет «меньшинствующего идеализма»: М.Б. Митин утверждал, что «действительно творческий марксизм» не сможет продвигаться вперед «без синтетической теории диалектики» [32]; на что А.А. Деборин отвечал в метафорическом ключе: «вот, в чем смысл басни сей» [7]. Раньше вышеуказанных ремарок из дискуссий в материалах «Вестника Коммунистической академии» явные намеки на «догматическую» формулировку закона «единства и борьбы противоположностей» не встречаются, что подтверждают и графики Google Books Ngram Viewer, а сам диалектический закон во всех других релевантных публикациях упоминается исключительно в классическом виде «единство противоположностей», хотя уже и появлялись идеи о том, «когда и как нужно соединять противоположности» и ради достижения каких целей [29; 27]. В частности, И.П. Разумовский замечает, что «особенно важное значение для нашего периода приобретает правильное понимание «взаимопроникновения» производительных сил и производственных отношений, понимание того, что самый конфликт между производительными силами и
производственными отношениями, движущий историческое развитие, что он тоже находит себе выражение во внутреннем противоречии данной социальной формы» [37]. Подобные мысли развивает и А.С. Арутюнянц: «Мы знаем из Ленина, что всякое единство противоположностей развивается через раздвоение единого и борьбу противоречивых сторон его» [2]. Однако, несмотря на то что попытки новой интерпретации диалектического закона на рубеже 20-х и 30-х годов встречаются всё чаще и чаще, даже в первом учебнике по «Диалектическому материализму» (1934) [10], созданном коллективом Института философии Коммунистической академии под руководством М.Б. Митина (с акцентом на общие законы диалектики), в перечне законов значится «классическая» версия Ф. Энгельса «единство и взаимопроникновение противоположностей», хоть и сопровождающаяся контекстуальным усилением акцента на метафору «борьба» (то же самое можно сказать и о сборнике публикаций М.Б. Митина «Боевые вопросы материалистической диалектики», 1936) [31]. И лишь в популярном очерке основных законов «Материалистической диалектики» (1937) [38] М.М. Розенталя (с акцентом на практико-ориентированную методологию) появляется «синтетическая», а вернее – синкретическая метафоризированная версия. Здесь надо отметить, что применение в сопоставлении этих трудов технологий компьютерной лингвистики, позволяющих выделять в больших массивах доступных текстов скрытые паттерны (анализируя тем самым терминологические сдвиги и их связь с политическим контекстом), показало резкий рост частотности использования метафоры «борьба» в популярном изложении диалектики. Используя в настоящее время методы киберлингвистики, предпосылки которой Розенталь называл «лженаукой», удалось выявить условия и контекст замены научного термина «взаимопроникновение» на метафору «борьба» в осуществленном для примера сравнении текстов 1934 и 1937 г. Частотный анализ количественных изменений терминов в этих текстах (подсчёт частоты употребления ключевых слов борьба и взаимопроникновение) показал, что в «учебнике Митина» взаимопроникновение в контексте единства противоположностей встречается 12 раз, а борьба – 5; тогда как в «очерке Розенталя»: борьба – 27, а взаимопроникновение – 1. Коллокационный анализ (сочетаемость «борьбы» с «классовой», «врагами» и т.п.) обнаружил, что у Розенталя «борьба» сочетается с: «классовая» (коллокационная сила: 8.2), «с врагами народа» (6.7), «социализм vs. капитализм» (5.9); тогда как у Митина «взаимопроникновение» связано с «единством», «развитием», «качеством». Тематическое моделирование текстов позволило сделать вывод, что в корпусе Митина доминируют темы: «философские категории», «диалектика природы»; тогда как у Розенталя: «классовая борьба», «победа социализма», «критика враждебных теорий». Установив таким образом идеологизацию диалектического закона, синхронизированную с пиком «Большого террора» (1937) и обусловленную заменой естественнонаучного термина «взаимопроникновение» на метафору «борьба», нейросеть ИИ (чатбот DeepSeek) сделала вывод, что инкорпорация метафоры «борьба» в закон «единство противоположностей» обратила последний в инструмент легитимации репрессий, упрощения высоко-классической диалектики и её переноса из философской в политическую плоскость с целью индоктринации «законов» материалистической диалектики. Обнаружив связь изменений в философской терминологии с политическим контекстом 1930-х, ИИ аргументировал таким образом тезис, что этот процесс стал результатом не собственно философской эволюции, а идеологического давления, сопутствующего «повороту на философском фронте» [16]. Несмотря на то что эволюция философских терминов на «поворотах философских фронтов» остается пока малоизученной областью на стыке гуманитарных и социальных наук, истории философии и компьютерной лингвистики, занятой изобретением и применением вычислительных методов для решения междисциплинарных задач [20], когнитивная лингвистика уже располагает изрядным объёмом данных о корреляции частотности использования метафор в связи с историко-политическими кризисами [50]. В когнитивной
лингвистике открывается более глубокое понимание метафоры «борьба» и её статуса среди других известных в философии метафор, используемых для описания научной картины мира, где они видятся как парадоксальные объединения концептов, складывающиеся посредством двухсторонней связи между языком и мышлением [21]. Новейшие когнитивистские исследования дают объёмные возможности для осмысления «метафоры в тексте» и «метафоры в голове». В современных научных текстах «борьба» относится к разряду фундаментальных (или базовых) и концептуальных метафор, представляющих собой одну из основных ментальных операций, осуществляющихся в процессе познания, структурирования и объяснения окружающего нас мира, а также выступающих ключевым элементом концептуального смешивания, или бленда [51], называемого в когнитивной лингвистике и технологиях искусственного интеллекта концептуальной интеграцией или приложением взглядов, в ходе которых элементы и жизненные отношения из различных сценариев «смешиваются» в подсознательный процесс, выражаемый «повсеместным языком повседневных мыслей» [53]. В современной когнитивной лингвистике для работы с концептуальными метафорами применятся методика идентификации метафор (Metaphor Identification Procedure, MIP) и выявления их метафорических индексов (Metaphor Power Index, MPI), учитывающая сферыисточники метафорической экспансии, которые ранжируются по категориям (частотности, содержания, интенсивности [Intensity Index (MII)]) с разными коэффициентами [22]. Данный подход позволяет определить «вес» концептуальной метафоры «борьба» с наивысшим коэффициентом, сопоставимым с софистическими метафорами [4], а также метафорами морбиальными, служащими границей социальной реальности, одномоментно как скрывающей, так и раскрывающей «реальный языковой мир», который в значительной мере бессознательно строится на основе языковых норм той или иной группы [5; 41]. Постановка вопроса о концептуальной метафоре дала толчок исследованиям в сфере мыслительных процессов человека. Это помогло подтвердить вывод, что прежде всего метафора – это приём «соединения несоединимого» в мышлении о мире, переведенный в словесную форму. При этом, согласно общей теории метафоры, развиваемой Ф. Уилрайтом, она считается ключевым элементом Т-языка (tensive language) [43], или «языка, создающего напряжение» и активизирующего «метафоричность» (metaphoricity activation) [52], другими словами – включающего зоны мозга, ответственные за работу с метафорами, не всегда осознаваемыми таковыми языковой личностью. Такое понимание когнитивного потенциала метафоры дало Дж. Джейнсу основание выдвинуть теорию, согласно которой сознание вообще появилось вместе с возможностями языка создавать метафоры. По его словам, «абстрактные когнитивные структуры формируются при помощи конкретных метафорических переносов» [49], поэтому можно утверждать, что метафора как феномен взаимодействия языка, мышления и культуры и есть основной способ построения языковой картины мира и структурирования окружающей нас действительности. И коль скоро у исследователей метафоры возникают вопросы о «неправильных», «неудачных», ошибочных метафорах, необходимо принимать во внимание соотношение «обычной» и «метафорической» истины и ложности, обратившись при этом с вопросом к формальной логике: можно ли сформулировать какие-то параметры ошибочности и ложности метафор [24]? Но поскольку формально-логический подход не исчерпывает все аспекты метафоры, «в которой воплощена сила, действующая вопреки принципам рассудка» [35], иные её аспекты восполняются «диалектической логикой», для которой метафора «борьба» стала служить обоснованием. Итак, комбинация технологий компьютерной и когнитивной лингвистик помимо помощи в фактологическом и содержательном изучении текстовых источников, с другой стороны, позволила обнаружить и ряд недостатков в развитии искусственного интеллекта, обусловленных тем, что обученные на массовых данных (LLM) чатботы не вникают при этом в их философские подтексты (т.е. анализируют текст формально, а не как философский дискурс), поэтому воспринимают часто повторяющиеся «стёртые» метафоры как аксиомы, формирующие у алгоритма ложные «ассоциативные» связи и не