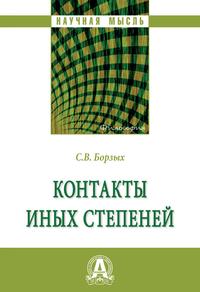Контакты иных степеней
Собственные конкурсы:
- АКАДЕМУС, 2024, Гуманитарные науки / Социальные науки, Победитель, III место
Контакты иных степеней: Размышления о возможности внеземного контакта
В монографии "Контакты иных степеней" С.В. Борзых исследует возможность установления контакта с внеземными цивилизациями, предлагая глубокий анализ перспектив и проблем, связанных с этой темой. Автор рассматривает вопрос с позиции опытного библиотекаря, анализируя учебные материалы и создавая структурированное саммари с аннотацией.
Наличие иных: Доказательства и ограничения
Книга начинается с фундаментального вопроса: существуют ли внеземные цивилизации? Борзых утверждает, что ответ положительный, основываясь на самом факте существования жизни на Земле. Однако, автор предостерегает от антропоцентризма, подчеркивая, что внеземные формы жизни могут кардинально отличаться от земных. Он рассматривает различные типы возможных существ, от аналогичных нам до совершенно иных форм, и анализирует вероятность их появления во Вселенной. Автор приходит к выводу, что, несмотря на огромные масштабы космоса, вероятность встречи с разумными существами невысока из-за огромных расстояний и различий в типах мышления и коммуникации.
Осмысленность общения: Препятствия и перспективы
Во второй главе Борзых анализирует осмысленность самого процесса общения с внеземными цивилизациями. Он подчеркивает, что для успешного контакта необходимо учитывать не только технические аспекты, но и культурные, когнитивные и даже биологические различия. Автор рассматривает различные типы коммуникации, от простых сигналов до сложных языковых систем, и приходит к выводу, что из-за этих различий вероятность взаимопонимания крайне низка. Он также затрагивает вопрос о возможных целях и мотивах внеземных цивилизаций, предупреждая о потенциальных рисках и угрозах, связанных с контактом.
Вероятность встречи: Оценка и выводы
В заключительной главе Борзых анализирует вероятность реального контакта с внеземными цивилизациями. Он приходит к выводу, что, несмотря на все усилия, вероятность встречи крайне мала. Автор подчеркивает, что даже при наличии разумных существ в космосе, различные факторы, такие как огромные расстояния, различия в типах мышления и коммуникации, а также возможные риски, делают успешный контакт маловероятным. Борзых призывает к осторожности и критическому подходу к этой теме, подчеркивая, что главная цель исследований должна заключаться не в поиске внеземной жизни, а в лучшем понимании самих себя и своего места во Вселенной.
- ВО - Магистратура
- 47.04.01: Философия
- Аспирантура
- 47.06.01: Философия, этика и религиоведение
КОНТАКТЫ ИНЫХ СТЕПЕНЕЙ С.В. БОРЗЫХ Москва ИНФРА-М 2025 МОНОГРАФИЯ
УДК 12(075.4) ББК 87 Б82 Борзых С.В. Б82 Контакты иных степеней : монография / С.В. Борзых. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 166 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/2186799. ISBN 978-5-16-020637-0 (print) ISBN 978-5-16-113307-1 (online) Данная монография посвящена теме внеземных контактов, которые гипотетически осуществимы, но которых у нас пока не было по ряду причин — и едва ли они состоятся. Разделена на три главы, первая из которых отдана рассмотрению самого наличия этих других, вторая — осмысленности самой этой встречи или беседы, третья — вероятности того, что все это с нами (и с ними) случится. В действительности же речь идет чуть ли не исключительно о человеке, потому что это единственный для нас объект или предмет изучения, однако предпринимается попытка взглянуть на нас с позиции этого потенциального соприкосновения с кем-то иным, с космической перспективы, которая и открывает новые или плохо нами понимаемые наши черты и качества, лучше просвечиваемые через призму этой сугубо теоретической коммуникации. В целом дается ответ на знаменитый вопрос, где все они, но с точки зрения того, что представляем собой мы, и эта резолюция не особо приятна, но она логична, по крайней мере здесь и сейчас, сквозь зеркало того, кого мы собой являем, даже если мы понятия не имеем, есть ли «они» как таковые, и если да, то какие они, где и когда и т.д. Удивительно, но этого достаточно, чтобы осознать, почему мы одиноки. Адресована широкому кругу читателей. УДК 12(075.4) ББК 87 ISBN 978-5-16-020637-0 (print) ISBN 978-5-16-113307-1 (online) © Борзых С.В., 2025
Введение Прежде чем приступать к изложению центральных тезисов — или, что более корректно и правильно, предположений и догадок — этой работы, необходимо уяснить сразу несколько вещей, без понимания которых вся она грозит скатиться к чистой спекуляции, а то и пре--вратиться в фарс и самообман. Вероятность подобного колоссальна, тем более что в нашем распоряжении всего один пример разумных — постольку-поскольку, но все же, мы к этому еще не раз вернемся — существ, а именно нас самих, и делать из этого хотя бы какие-то выводы и странно, и наивно, а порой и смешно, но если быть осторожными в суждениях и иметь в виду некоторые оговорки и допущения — какими бы невнятными и неубедительными те ни были, — то можно по крайней мере избежать наиболее грубых и нелепых ошибок и иллюзий, и вот об этих предваряющих основной текст замечаниях и пойдет речь. В конце концов, никто, ничто, никак и ни в чем не мешает нам подстраховаться и если и не исключить опасности заблуждений в принципе, то серьезно снизить шансы их появления или смягчить потенциальный от них вред и, насколько нам это доступно — с чего мы как раз и начнем, — это и осуществляется в данном введении. Итак, какая главная проблема стоит перед нами на этом поприще? Как бы прискорбно это ни было, — и как бы, напротив, этим ни кичились или, как минимум, высоко ни ценили, — но мы обладаем сугубо человеческими мозгами, а также перцептивным и рефлексивным аппаратом, и это не расширяет наш ментальный горизонт, но чудовищно его ограничивает, отчего абсолютно все наши соображения в отношении чего бы то ни было, и особенно тех материй, которым и посвящен данный материал, в лучшем случае затрагивают что-то действительное, а в худшем ни на что не годятся, и исправить это никак и ничем нельзя. Как бы мы ни старались, сколь бы аккуратными ни были, как бы ни пытались все учесть и продумать и далее по этому весьма длинному списку, мы буквально обречены говорить то и так, что и как вложила в нас эволюция, и никакие техники, решения, приемы, методы, инструменты, средства и т. д. не позволят нам выйти из этого давящего на нас со всех сторон когнитивного шара, в котором мы и заточены. Нравится нам это или нет — но выбора-то у нас и нет, — но мы люди и способны лишь на то, на что нас и затачивала природа, в том числе — а то и в первую очередь — и в сфере постижения реальности, и чем дальше она от нас, тем плачевнее результаты наших изысканий, что бы мы ни предпринимали и как бы ни напрягались для того, чтобы они были нормальными. Если вкратце, то мы всегда выдадим то же самое и ничего другого, и уро
вень, степень, объем, глубина, острота, масштаб нашего осознания чего угодно неизменно останутся нашими же, а это, увы, не так много, как это рутинно утверждается. То есть мы обречены блуждать внутри этого достаточно узкого контура, и ничто не поможет нам его покинуть, и это центральное препятствие в тех вопросах — а вообще-то во всех, — которые тут рассматриваются. Но значит ли это, что мы и вовсе не должны за них браться и заниматься только тем, на что наших извилин более или менее хватает? Если быть максимально честными с самими собой и избыточно себе не льстить, то да, но не все столь просто или удручающе. Хорошая новость в том, что если не претендовать на истину в любой инстанции, какой бы непритязательной и невзрачной она ни была, то перед нами разворачиваются если и не бесконечные, то все же довольно внушительные перспективы, пусть и не слишком для нас приятные — все это как раз и демонстрируется ниже. Если отказаться от категоричности, заносчивости, раздутых самомнения и эго, старых и уже нерелевантных — а то и всегда бывших такими, или, того отвратительнее, но иных нам и не предоставлено — воззрений и тяжелого багажа прошлого, беспрерывных и часто откровенно ненужных, а то и вредных экстраполяций, антропоцентризма, разного рода констант, традиций, обычаев, правил приличия и далее по этому плачевно долгому перечню, но блюсти здравый смысл, логику, отрешенность от своей погруженности в повседневное бытие, признание самого этого факта, скептичность и объективность — какие бы они нам ни были доступны — скромность в сентенциях, интенциях и взглядах, трезвость интеллекта, и опять же много что еще, то не все столь и ужасно, каким оно кажется даже и при обычном назывании всех этих преград и условий — и это не говоря об их имплементации, — и кое-что для нас все-таки прослеживается и открывается, и сколь бы мало и вроде незначительно это ни было, это и не ноль, чтобы совершенно отчаиваться и ни на что не надеться. Нам всего-то и надо, чтобы не впадать в крайности и учиться на собственных ошибках, а к тому же критически оценивать все, что нам известно, не веря самим себе и ни на что не полагаясь в полной мере, и этого вполне достаточно для того, чтобы если и не отыскать то желаемое, к чему мы стремимся, то составить правдоподобную картину того, что вполне допустимо, а что чрезвычайно невероятно, что бы это ни было. Кроме того, было бы неплохо понимать, что все наши рассуждения описывают по преимуществу все же нас и нас же касаются, а все, с нами не сопряженное, они упускают, даже если мы претендуем на то, чтобы что-то о нем сообщить. Устройство нашего мозга, а следовательно, наши логика, аппарат аргументации, методы и способы размышления, приемы, к которым мы при этом прибегаем, паттерны
суждения, сам этот процесс, очевидность, само собой разумеющееся, убедительность и в принципе все, что связано с этой сферой нашей жизни, отражают не нечто универсальное в нас, но то специфическое и уникальное, что мы собой и являем, и потому считать, что на этом поле мы достигнем чего-то, что нас не репрезентирует, если и не глупо, то несолидно и странно. Куда более ожидаемо, что мы в который раз продемонстрируем то, что в нас в этом плане и заложено, причем не на уровне воспитания и обучения — на них тоже, но об этом далее — а в плоскости самих наших анатомии и эволюции, которые адаптируют — или уже к этому пришли — нас не под решение абсолютно всех задач — или, что более корректно, их классов или категорий, — но весьма конкретных и оттого заранее ограниченных, типичных и стандартных — а то и для нас шаблонных и трафаретных — но не в целом, чем бы оно ни было и если оно есть как таковое, что вряд ли, скорее всего и наши визави столь же зажаты в своих воззрениях и талантах, что и мы. В этом отношении мы обречены на самоповторы и бесконечные итерации того же самого, того, что нас и выражает, из-за чего обольщаться по поводу результатов всей этой деятельности явно не стоит, как бы обидно и горько это для нас ни было. И снова нас если и не спасают уже отмеченные средства и инструменты, то они хотя бы позволяют нам не отчаиваться — и не нацеливаться — на то, что нам и не по плечу, а то, что нам все-таки по силам, адекватно и внятно — и вновь насколько это для нас достижимо, впрочем, никакой альтернативы у нас и нет — взвешивать, даже если при этом — а по умолчанию так оно и будет — обнаружится, что ничего мы толком и не нашли, да и нормальной интерпретации того, на что наткнулись, не произвели. Да, они не панацея и не лекарство от заблуждений и ошибок, но это что-то, в отличие от того, на чем мы базируем свои наблюдения и их трактовку сейчас, и с этим багажом на что-то мы уже годны, сколь бы скромными ни были эти наши компетенции. Как бы то ни было, но они — это тот единственный репертуар, которым мы со всем на то правом распоряжаемся — увы, не актуально, а потенциально, но это более чем исправимо — и кроме которого у нас ничего и нет, но при этом надо все-так помнить о том, что сама эта проблема постижения никак и ничем не снимается, что бы мы для этого ни предпринимали, а поэтому любые наши изыскания на этом открытом и далеко не всеобъемлющем, что бы мы себе ни воображали, для нас ментальном ландшафте, на что бы ни был направлен наш фокус, лимитированы нашей же естественной и чрезвычайно местечковой природой. К счастью, если тут мы ни в чем и никак — разве что в признании того, как мы зажаты, — не преуспеем, то по остальным векторам мы в состоянии одолеть, а еще лучше разрушить, увы, воздвигнутые нами же вершины или стены, которые, как
это ни удивительно, но зато прекрасно нас характеризует, до сих пор зачем-то торчат перед нами — а не помогают забраться на них и все для себя прояснить, — загораживая собой горизонт и не давая различить то, что более чем для нас прозрачно. Что же это за препятствия? В первую очередь это указанные уже вскользь традиции и обычаи — где, как и когда бы они ни применялись и на что бы те ни распространялись, изъятий тут нет, — а, кроме того, слепая вера, предрассудки, набившие оскомину истины, стереотипы, устоявшиеся мнения и далее по этому длинному перечню. Чего бы они ни касались и как бы ненавязчиво и мягко ни практиковались, они мешают нам быть трезвыми и объективными, даже и в тех скромных рамках, что нам доступны, а это, некритически выражаясь, совсем немного, но и в этом мы в итоге сами же себя стреноживаем, рисуя себе не то, что нам доступно, а то, что для нас привычно, а это далеко не одно и то же. Благо, это не диагноз, но все же даже в качестве склонности, это отвратительно и мерзко, и отчего-то мы от нее никак не избавимся, более того, защищаем все эти заплесневелые и устаревшие взгляды и оценки, как будто в них заложено что-то помимо этих их ветхости и неадекватности. Отчего-то мы считаем, что утвержденное и окропленное, озаренное и обласканное, орошенное и освященное временем, авторитетами, властями, экспертами, специалистами, статусом, деньгами, приверженностью неким принятым протоколам и процедурами — и ими самими — опытом — с этим вообще полные провал, ужас, крах и катастрофа — и т. д. и есть если и не истина, то неплохое к ней приближение, в том и дело, что куда чаще, чем это было бы терпимо и прилично, все эти реперные точки и ориентиры нас обманывают и нам нагло — с разной степенью, но все же — лгут, заставляя нас ходить вокруг них вместо того, чтобы взглянуть на них непредубежденно и тотчас же от них отказаться. Но что с ними, особенно с наиболее для нас ценными, не так? Как это ни парадоксально, но неудобство с ними не в том, что они присутствуют в принципе, но в том, какую роль мы им приписываем и сколь жестко и цепко с ними соотносимся и на них надеемся. Как известно, никто и ничто не застрахованы от ошибок и предвзятостей, но мы почему-то решили, что кто-то или какие-то институции — а к ним и методики — предпочтительнее в этом плане, чем какие-либо другие, но в том и беда, что мы не должны придерживаться каких-то исключительных и эксклюзивных, сколь бы правы они ни были в прошлом и какие бы выгоды нам ни приносили. Если проще и прозаичнее, то ничего непререкаемого, окончательного и неопровержимого нет и никогда не было — как и не ожидается, как минимум, для нас — и мы именно обязаны все и вся — чем бы оно ни было и откуда бы ни взялось или ни произрастало — подвергать сомнению и анализу с позиции логики и трезвого духа, а к тому же не забывать
о том, что мы все-таки люди и оттого усматриваем в том, с чем мы встречаемся — а это далеко не все и не во всей своей глубине — только для нас и заметное, и это, как не раз подчеркивалось, вовсе не то, что претендует на эпитеты настоящего и бесспорного. Как, от кого, когда, от каких инстанций и т. д. мы ни получали бы знания, все они, по крайней мере, несостоятельны и никогда не приобретут звания финального и вечного, и никакие манипуляции с ними не помогут им в этом их продвижении — если они вообще туда направляются, а не банально что-то заявляют без какой-либо внятной аргументации, как в случае с нумерологией, уфологией, астрологией, хиромантией и прочими ни на что не годными дисциплинами. Не избавлена от этих участи и проклятия и наука, как бы кому это не нравилось и как бы сами ученые не настаивали на том, что им дан некий волшебный рецепт — или же они гораздо чаще остальных к нему апеллируют, никакой тайны в их методах нет, как бы кто ни пытался выставить это иначе, — как избежать шансов попадания не туда, куда бы не стоило. Понятно, что она гораздо лучше, чем то, что ставится ей в противовес или с ней не сопрягается, но и она не свободна от разного рода эвристик, склонностей, предвзятостей, субъективности, амбиций, стяжательства, личных передряг и пересудов, предпочтений, близорукости, просчетов, ошибок, скандалов и далее по этому весьма солидному списку, и потому полагаться на нее если и не столь же ненадежно, как на альтернативы ей, то и не так правильно, как это обычно полагается, как бы прискорбно это ни звучало и ни было. У нее тоже нет магической таблетки от всех тех когнитивных напастей, которые висят над всеми нами, отчего она заблуждается ровно также, как и любые прочие варианты или траектории на этом поле, а если она и добилась более впечатляющих, убедительных и прочных результатов на этой ниве, то зачастую оттого, что сама же себя и критиковала или, на худой конец, старалась эту операцию в себя и внедрять — но нельзя при этом не заметить, что не очень и хорошо ей это и удавалось, но, конечно, в этом она кратно и на порядки впереди чего бы то ни было еще. Разумеется, и у нее ничего не вышло, но это более чем натурально и нормально, принимая во внимание, что и ее создавал человек, а не кто-то или что-то, наделенные непогрешимым и универсальным — а он, нелишне это повторить, у нас не такой, причем заведомо — интеллектом, однако генерально все же выбирать следует ее, а не все прочее, каким бы привлекательным, соблазнительным и, главное, легким оно ни казалось. Но как нам быть с ее недостатками и пробелами? Что касается вторых, то прогресс на этом поприще идет, и это прекрасно, и нужно лишь наращивать усилия на этом направлении, но и без этого — или с тем же темпом — с каждым днем мы знаем больше, а наши сведения аккуратнее, как никогда ранее, и пока это
продолжается, наша информированность о мире увеличивается и становится острее. Ясно, что не все они одинаково утилитарны, но какими бы они ни были это куда более предпочтительно, чем топорные рассказы прошлых лет, каноны, мифы и догмы, однако важно также и то, как именно добываются все эти данные, на что мы обращаем внимание, а, кроме того, как затем все это трактуем, а с этим не все столь гладко, как бы того хотелось. Увы, но сам процесс их извлечения, как и предварительной фокусировки, страдает от ряда весьма серьезных упущений — или, напротив, аксиом, — из-за чего наше постижение реальности искажено и предвзято, а к тому же, и как бы грустно это ни было, мы не отказываемся от груза прошлого навсегда, но, как правило, модифицируем его и сохраняем, но в завуалированном виде, отчего весь этот компендиум слеплен из нередко несопоставимых и несогласующихся представлений, которые иногда идут друг с другом вразрез. Но и там, где с этим нет никаких проблем — т. е. все сочетается и ничего наружу не выпадает и не торчит, — мы бываем непоследовательны или же нам явственно не хватает честности и скрупулезности, в силу чего наши взгляды на то, что нас окружает, либо неполны, либо и вовсе неверны и ложны, и если это как-то и корректируется, то непрекращающейся и непрерывной работой по их верификации и фальсификации, в чем мы обычно терпим фиаско — если пытаемся предпринять что-то в этом духе, а это по умолчанию не так — или же банально ничем подобным не занимаемся. Неудобство в том, что вера первична, как бы кому это ни нравилось или, наоборот, и среди ученых тоже есть установки, которые никто не ставит под сомнение несмотря на то, что они нуждаются в анализе, как ничто иное, тем более что это весьма ощутимо отражается на результатах, которые мы, опираясь на них, получаем. Это очень похоже на эффект бабочки, при котором малейшие начальные различия приводят к колоссальной финальной дифференциации, но и в том и беда, что мы тривиально не в курсе, насколько мы далеки или близки от истины вследствие того, что сознательно не выбирали опорные точки, от которых с тех пор и отталкиваемся. Усугубляет ситуацию и то, что, судя по всему, какие-то альтернативные нам либо недоступны, либо для нас непрозрачны, что технически для нас тождественно и что погружает нас в это болото, из которого мы вряд ли сумеем выбраться, но это и неудивительно, учитывая, насколько несовершенен и наивен наш мозг, который буквально льнет к тому, что никак не доказано и что представляется ему убедительным и якобы само собой разумеющимся, что, конечно, далеко не всегда так. То есть мы понятия не имеем, корректен ли наш маршрут или нет, а то, что мы воспринимаем его в этом качестве, ничего не значит, как и ни о чем не свидетельствует наш скудный и ограниченный опыт, к которому обращаются как к последнему арбитру во всех таких вопросах.
К несчастью для нас, все наши эксперименты — это неизбывное подтверждение того, что мы уже открыли, даже если внешне они как будто говорят нам что-то новое, потому что посмотреть на мир со стороны, не с того угла, который нам свойственен, мы по самой природе своей не способны, из-за чего и вынуждены взирать на него сквозь узкую щель своих когнитивных возможностей, как правило, этого и не понимая. Словно этого мало, мы добавляем к этой своей зашоренности определенную перспективу, которая по каким-то причинам для нас более привлекательна, заманчива и желанна, и в итоге это оборачивается гигантским если и не самообманом, то заблуждениями и ошибками, исправить которые мы попросту не в состоянии, разве что не деконструировав все, что мы выяснили, но на это отчаиваются немногие, ибо это и тяжело, и сопряжено с огромными рисками социального и культурного плана. Но как же все эти проверки и тесты, неужели они ничего не доказывают? Было бы глупо отрицать их ценность и громадный потенциал, но проблема в том, что мы недостаточно прилежны, придирчивы и дотошны — а только так это и работает — в том, чтобы к ним апеллировать и, тем более, их осуществлять, причем ко всему в принципе, не щадя ничего и никого. Обычно же никто и не оспаривает ту картину мира, которой мы располагаем на данный момент и в которой живем, а если и подступается к тому, чтобы ее расшатать или подвергнуть ее разбору, то ему или ей всячески и крайне настойчиво — а к тому же эффективно и быстро — мешают, но даже если нечто подобное практикуется и наблюдается, то велик шанс того, что это ни во что не выльется, ведь у нас нет средств, методов и инструментов для того, чтобы создать по-настоящему отличное от наличного отображение реальности, в чем и из чего бы то ни состояло — и, как это ни парадоксально, недостатка в таких теориях и гипотезах нет, но отношение к ним негативное, либо они и вправду чудовищны и глупы, утверждая то, что не укладывается ни в какую здравую логику. Если прозаичнее, то мы чуть ли не обречены постоянно носиться с тем, что у нас уже есть, если и осознавая, что мы застряли в данной парадигме, то с прискорбием и печалью оттого, что поистине другое для нас незаметно или в лучшем случае чрезвычайно трудно нами усвояемо — а к тому же и разворачиваемо — что препятствует переменам в этой сфере, а если их и подвигает, то медленные и косметические. Но как — если это нам как-то дано — преодолеть эту катастрофическую узость мышления и присутствуют ли такие техники и механизмы, которые бы нам в этом помогли? Самый основной рецепт к решению этой нетривиальной сложности, помимо избегания — но в нашей терминологии, в более широких рамках они априори ближе, чем для нас, да и вообще это континуум, а не набор каких-то дискретных единиц — полюсов и экстре
мумов — это не претендовать на универсальность нами постигнутого, как и нашего разума, который, будучи весьма умеренным по своей мощи, и не в силах создавать нечто такого уровня. Если мы что-то отыскиваем, как-то его потом интерпретируем, а после применяем к этой действительности в надежде на какую-то от этого выгоду, то всегда надо отдавать себе отчет в том, что это чисто наша оптика — к тому же и обусловленная текущим состоянием в этой области, что еще больше ее скукоживает, — которая не должна притязать на нечто сверх этого, что фактически означает признание нами локальности, а то и примитивности наших представлений, как и чем бы мы их ни подкрепляли и, естественно, как бы их ни оценивали. Если что-то в соответствии с ней и функционирует, то это прекрасно, но это еще не вся история, да она и не способна таковой быть, и обязательно остается пространство — и скорее всего внушительное, а то и неисчерпаемое, — которое нами никак не фиксируемо, а тем более не трактуемо, и оттого мы не вправе называть хотя бы что-то всеобщим и всеохватным. Все это исключительно наши взгляды, если и соответствующие чему-либо, то до какого-то градуса, но не во всем, не везде, не по всем направлениям и не всегда — и по каким-то неизвестным нам параметрам тоже, — и оттого если нам что-то и кажется, то следует вовремя остановиться и дальше не идти, чтобы не нарушить этот более чем справедливый запрет. Увы, но нам это не свойственно, и мы пагубно — а то и фатально — и с вредными для себя исходами предрасположены к заявлениям о каком-то невероятном масштабе своих прозорливости и проницательности, которые и на поверхности-то не выдерживают никакой критики, не упоминая уже о том, что это все внешнее, а внутри все и того трагичнее и удручающе. Кроме того, было бы неплохо понимать, что мы наблюдаем довольно размытый, но, хуже того, снимок — а если и их череду, то чрезвычайно короткую — системы — если это она, — который если что-то нам и демонстрирует, то сам себя и, вероятно, какие-то сквозные ее характеристики, черты и атрибуты, но заведомо не описывающий ее целиком. Наши же экстраполяции — о чем вскоре — если и помогают нам увидеть то, что было до и будет после — но также и прямо сейчас, полагать, что мы правильно все осознаем, несколько наивно, а то и нелепо, — то весьма приблизительно, если они в принципе работают, и значит, все, что нам доступно — с той же оговоркой, — это вот этот самый момент, но вовсе не вся их длинная или нет цепочка, которая и теоретически, и практически может быть какой угодно, а не только той же, что мы обнаруживаем. Мы и сами нередко постулируем качественные трансформации — но не из количества, диалектика ложна и даже смешна, — но логически в том числе это свидетельствует о неприменимости — или натянутости — наших нынешних воззрений к тому, что было и грядет — и, кстати, и по