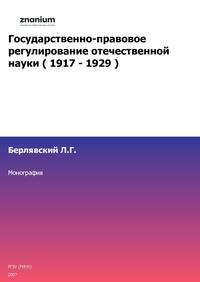Государственно-правовое регулирование отечественной науки ( 1917 - 1929 )
Покупка
Новинка
Основная коллекция
Тематика:
Теория права. Правоведение
Издательство:
РГЭУ (РИНХ)
Автор:
Берлявский Леонид Гарриевич
Год издания: 2007
Кол-во страниц: 152
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-7972-1118-1
Артикул: 858995.01.99
В монографии представлено государственно - правовое регулирование российской науки накануне революционных потрясений 1917 г., формирование концептуальных основ государственно - правового регулирования научных исследований в Советском государстве 1917-1920 гг.. противоречивость правового воздействия на науку как социальный институт в условиях новой экономической политики. Объектом данного исследования является
российская наука как область деятельности, связанная с получением нового знания, важнейший элемент культуры, а также социальный институт, система организации научных исследований. В центре внимания автора
находился процесс взаимодействия государства, права и отечественной науки, юридическое оформление государственной научной политики Советского государства в 1917-1929 гг.
Тематика:
ББК:
УДК:
- 001: Наука и знание в целом. Организация умственного труда
- 342: Государственное право. Конституционное право. Административное право
ОКСО:
- ВО - Магистратура
- 40.04.01: Юриспруденция
- 46.04.01: История
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» БЕРЛЯВСКИЙ Л.Г. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ (1917–1929 гг.) Монография Ростов-на-Дону 2007
УДК 342+001
Берлявский Л.Г. Государственно-правовое регулирование отечественной науки (1917–1929 гг.) : монография / Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». — Ростов н/Д,
2007. — 153 с.
ISBN 978-5-7972-1118-1
В монографии представлено государственно-правовое регулирование
российской науки накануне революционных потрясений 1917 г., формирование концептуальных основ государственно-правового регулирования научных исследований в Советском государстве 1917–1920 гг., противоречивость правового воздействия на науку как социальный институт в условиях
новой экономической политики. Объектом данного исследования является
российская наука как область деятельности, связанная с получением нового знания, важнейший элемент культуры, а также социальный институт,
система организации научных исследований. В центре внимания автора
находился процесс взаимодействия государства, права и отечественной
науки, юридическое оформление государственной научной политики Советского государства в 1917–1929 гг.
Рецензенты:
доктор юридических наук, профессор Л.В. Акопов;
доктор юридических наук, профессор М.В. Мархгейм
доктор философских наук, кандидат исторических наук,
профессор А.П. Скорик
УДК 342+001
Б 49
Утверждено в качестве монографии редакционно-издательским советом университета.
ISBN 978-5-7972-1118-1
© Ростовский государственный
экономический университет
«РИНХ», 2007
© Берлявский Л.Г., 2007
Б 49
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................4 ГЛАВА I. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ НАКАНУНЕ 1917 ГОДА....................24 ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МОБИЛИЗАЦИИ НАУКИ КАК ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 1917–1920 гг........................33 ГЛАВА III. ПРОТИВОРЕЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА НЭПА........................................................................75 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...............................................................................................146
ВВЕДЕНИЕ Наука — величайшее изобретение человечества, испытывающее на себе все сложности исторического развития. В Доктрине развития российской науки, утвержденной Указом Президента РФ № 884 от 13 июня 1996 г., констатируется, что российская наука за свою многовековую историю внесла огромный вклад в развитие страны и мирового сообщества, однако административно-командный механизм в экономике, высокая степень закрытости научно-технической сферы, неоправданные ограничения прав интеллектуальной собственности снижали эффективность использования научного потенциала страны; государство рассматривает науку и ее научный потенциал как национальное достояние. 1 Научно-теоретический аспект актуальности темы определяется тем, что в отечественной юридической науке проблема правового регулирования отечественной науки как самостоятельная не ставилась, между тем она представляет собой сложный механизм функционирования права и науки как важнейших социальных институтов на разных этапах российской истории. Успешная научная политика государства возможна лишь при условии изучения, осмысления и учета предшествующего опыта правового регулирования науки, причем как положительного, так и отрицательного. Изучение советского права позволяет также критически взглянуть на западное право. 2 Кроме того, история российского государства и права является источником современной правовой реформы. 3 Значимость государственной научной политики для общественного развития определяет социально-политический аспект актуальности темы. Конституция Российской Федерации гарантировала каждому свободу научного творчества и охрану интеллектуальной собственности (ст. 44). Международный стандарт свободы научного творчества определен во Всеобщей декларации прав человека (ст. 27). В современных условиях впервые в отечественной истории наука развивается на базе правовых норм Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. 4 Несмотря на это, имеющая место реанимация таких характерных для прошлого моделей взаимодействия власти и науки, как умаление роли научной деятельности в социально-экономическом развитии страны, недостаточный учет мнения научного сообщества при разработке законодательных актов, неопределенность правового статуса ученого в обществе, ути 1 СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст.3005. 2 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. — М., 1997. — С.114. 3 Андреева О.И. История российского государства и права как источник современной правовой реформы. // История государства и права. — 2005. — № 5. — С.16-18. 4 СЗ РФ. — 1996 г. — № 35. — Ст. 4137.
литаристское отношение к науке со стороны властных структур заставляют
извлекать уроки из нашего прошлого.
Хронологические рамки исследования — 1917–1929 гг. Начальный
рубеж традиционен для истории отечественного права и государства. Октябрьская революция 1917 г. изменила не только политический режим, но и
сложившуюся систему организации научных исследований, положила начало советскому законодательству о науке и научной деятельности, коренным образом изменила юридический статус и социальное положение ученого в обществе. По мнению ряда исследователей и политиков, в указанный период еще существовали различные альтернативы исторического
развития страны.
Выбор верхней хронологической границы обусловлен тем, что в конце 20-х годов завершилось формирование административной системы,
произошел «великий перелом» во всех сферах жизни советского общества.
В 1929 г. было положено начало коренной перестройке научных учреждений всех видов.5 На рубеже 20–30-х гг. в стране сформировалась тоталитарная система власти, предпосылкой и условием возникновения которой
стала монополия РКП (б) — ВКП (б) на власть; партийный аппарат быстро
срастался с властью государственного аппарата. В частности, в это время в
советскую систему была интегрирована Академия наук, полностью огосударствлены научные общества, завершено формирование систем управления и организации научной деятельности. В период, связанный с деятельностью Сталина, окончательно произошел разрыв с демократическими
идеями прав и свобод личности и упрочение жестких тоталитарных начал.6
Степень научной разработанности проблемы проявляется в том,
что историография обязательно достигает границ, после которых ученым
приходится поднимать науку на соответствующий уровень.7 В этом плане
важным представляется положение о том, что историко-правовая наука
должна давать читателю правдивые сведения; правдивость историкоправового материала совершенно необходима для его практического использования. В советской историографии долгие годы существовала тенденция к приукрашиванию одних исторических событий и очернению других.8 Современное состояние исторических исследований характеризуется
постепенным отходом от советско-марксистских стандартов и стереотипов,
сложившихся за многие десятилетия.9
5 Федькин Г.И. Правовые вопросы организации научной работы в СССР. — М.,
1958. — С.34.
6 Общая теория прав человека / Рук. авт. колл. и отв. ред. Е.А.Лукашева. — М.,1996. —
С.79.
7 Mazour A.G. Modern Russian Historiography. — London, 1975. — P. 196.
8 История отечественного государства и права. Ч.1. — 2-е изд. / Под ред.
О.И.Чистякова. — М., 1992. — С.8-9.
9 Лядов А.О., Евсеев А.В. Методологические предпосылки исторических исследований
государства и права. // История государства и права. — 2001. — № 3. — С.31.
Необходимо также исходить из того, что история государства и права возникла на стыке наук, вобрав в себя как базис весь комплекс чисто исторической науки (события, факты, даты), так и понятийный аппарат юриспруденции (форма государства, форма правления, политический режим и т.п.).10 Историография темы исследования прошла в своем развитии два основных этапа: советский и постсоветский. Ведущую роль в системе организации научных исследований в России играла Академия наук. Послереволюционные исследования, сосредоточенные на истории учреждения и организации отдельных академических учреждений,11 обходили вопросы правового статуса Академии наук, причиной чего был своеобразный компромисс Академии с советской властью. Обе стороны старались избегать как откровенно позитивных, так и резко негативных оценок прошлого, что проявилось во время празднования 200летия Академии наук в 1925 г. В речи на этом юбилее народный комиссар просвещения А.В. Луначарский утверждал, что «не все академики сознают необычайность того положения, что Академия, основанная царями и бывшая так долго под их тяжелой рукой, первой войдет под триумфальную арку революционного перелома жизни всего человечества».12 Негативистское отношение к прошлому Академии стало культивироваться в послевоенный период, когда критиковалась роль «некоторых академических традиций», своеобразный правовой статус Академии наук в 1917–1925 гг.13 В юридической литературе обращается внимание на то, что на протяжении всей истории СССР Академия наук состояла при СНК СССР; партийное руководство страны жестко контролировало выборы ее Президента, Президиума, а также членов Академии; с 1928 г. перед АН СССР была поставлена задача создания пятилетних научных планов, что означало окончательное превращение Академии в «научную часть общей системы государственного управления».14 Между тем, актуален вопрос о правовом статусе АН СССР в исследуемый период. Руководитель проблемной группы правовых вопросов организации науки Института государства и права РАН Н.А. Гордеева счита 10 Смыкалин А.С. Проблемы российской историко-правовой науки. // История государства и права. — 2005. — № 5. — С.19. 11 Геологический музей АН СССР. — Л.,1925; Химический институт АН СССР. — Л., 1925; Постоянная комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран АН СССР. — Л.,1925 и др. 12 Луначарский А. В союзе с наукой: Из речи на праздновании двухсотлетия Академии наук СССР. // Правда. — 1925. — 8 сентября. 13 Князев Г.А. Краткий очерк истории Академии наук СССР. — М. — Л.,1945. — С.6566; Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов Л.К. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. — М., 1974 — С.5; Академия наук СССР — 250 лет: (Ред.). // Правда. — 1973. — 17 октября. 14 Лаптева Л.Е., Лапаева В.В., Сильвестрова Е.В., Скрипилев Е.А. Российская Академия наук: история и перспективы. // Государство и право. — 2005. — № 6. — С.81.
ет, что Академия наук представляла собой государственное учреждение в полном смысле слова.15 По мнению М.В. Волынкиной, в статусе Академии наук одновременно присутствуют признаки и учреждения, и общественного объединения, и ассоциации юридических лиц, а также ряд признаков министерской системы управления.16 Правовое регулирование отечественной науки в 1917-1920 гг. начало изучаться только в последующее десятилетие, когда был обнародован тезис о том, что с первых дней советской власти немало научных работников открыто выступали против нового строя, «многие исподтишка вредили ему, а еще больше было тех, кто оставался долгие годы «нейтральным».17 Подобные взгляды, базировавшиеся на узкоклассовом подходе, характерны для исследований периода застоя.18 В постсоветский период предпринята попытка обосновать вывод о том, что трагический парадокс положения российской научной интеллигенции состоял в том, что в списках «антисоветски настроенной интеллигенции» после 1917 года фигурировали те же ученые, которые входили в состав неблагонадежной профессуры у царской охранки; это были деятели науки с мировыми именами: И.А. Ильин, С.Л. Франк, П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, А.А. Эйхенвальд и другие 19. В 1917–1922 гг. свыше 5 процентов официальных актов Советской власти были посвящены вопросам науки и техники.20 Анализируя законодательные акты новой власти в отношении науки, авторы советского времени характеризовали отраженное в них стремление привлечь ученых на свою сторону, переубедить их, «перевоспитать». Репрессивный элемент советского законодательства и практики правоприменения стал изучаться с начала 1990-х годов.21 К. Аймермахер (ФРГ) пришел к выводу, что декреты и указы, принятые сразу же после Октябрьской революции, а также другие меры, затронувшие газеты, библиотеки, издательства, школы показывают, что партия большевиков стремилась контролировать все институты, участ 15 Гордеева Н.А. О правовом статусе Российской Академии наук. // Законодательство о науке: современное состояние и перспективы развития. / Отв. ред. В.В.Лапаева. — М., 2004. — С.188. 16 Волынкина М.В. Гражданская правоспособность Российской Академии наук. // Государство и право. — 2005. — № 6. — С.89. 17 Кольман Э. Сталин и наука. // Под знаменем марксизма. — 1939. — № 12. — С.184. 18 См.: Великая Октябрьская социалистическая революция и интеллигенция. — Рига, 1967; Амелин П.П. Интеллигенция и социализм. — Л., 1970; Соскин В.Л. Ленин, революция, интеллигенция. — Новосибирск, 1973; Федюкин С.А. Октябрьская революция и интеллигенция. // История СССР. — 1977. — № 5. — С.69-88 и др. 19 Борисов В.П. Золотой век российской эмиграции // Вестник РАН. — 1994. — № 3. — С.277; Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура: «под колпаком у власти». // Вопросы истории естествознания и техники. — 1994. — № 2. — С.65-75. 20 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки. — 19171922. — М., 1972. — С.75. 21 Павленко Н.И. Историческая наука в прошлом и настоящем (Некоторые размышления вслух). // История СССР. — 1991. — № 4. — С.95 и др.
вующие в формировании образа мыслей народа; кроме того, она вела целенаправленную политику, направленную на подъем образовательного уровня населения, особенно рабочих и крестьян.22
В сталинский период исследуемая тема освещалась фрагментарно.
А.Я. Вышинский в своих сочинениях подверг резкой и необъективной критике взгляды и деятельность заведующего отделом законодательных предположений Наркомюста РСФСР, одного из разработчиков первой реформы
советской высшей школы, учредителя Социалистической академии профессора М.А. Рейснера.23 С точки зрения Вышинского, ошибочным, вредным, антимарксистским было представление М.А. Рейснера о советском
праве как о компромиссном праве, как о праве «умиротворения и примирения».24 Он также не был согласен с видным административистом, профессором А.Ф. Евтихеевым, который в 1925 г. пришел к выводу, что права
личности в советских республиках занимают сугубо подчиненное положение к правам коллектива, а «область усмотрения в советском праве действительно очень велика».25
Избранный в 1925 г. ректором МГУ, А.Я. Вышинский в опубликованной в это время статье «Актуальные вопросы высшей школы» писал, что
классовые противоречия, враждебные пролетариату, пытаются опереться
на авторитет университетских кафедр, закрепиться на этих позициях и от
обороны перейти в нападение, «проповедь кулацкой, поповской и мелкобуржуазной идеологии должна быть решительно устранена из стен советской высшей школы».26 Доктор юридических наук А.М. Ларин считал, что
Вышинский понимал, что по произволу властей в любой момент может
разделить участь своих бывших товарищей по партии меньшевиков, к тому
времени брошенных в концентрационные лагеря или расстрелянных, что
побуждало его впоследствии с поразительным усердием фальсифицировать уголовные дела против действительных или мнимых противников
Сталина.27
В период политической «оттепели» времен Н.С. Хрущева был сделан
шаг по пути объективного анализа данной проблемы. В частности, был
подвергнут критике ряд сочинений предшествующего времени и обоснован
вывод о том, что причиной распространения необоснованных фактов является расширительная трактовка участия В.И. Ленина в судьбе каких-либо
22 Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932 гг. — М.,
1998. — С.26.
23 См.: Лаптева Л.Е., Лапаева В.В., Сильвестрова Е.В., Скрипилев Е.А. Указ. соч. —
С.81.
24 Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. — М., 1949. — С.17-18.
25 Там же. — С.28.
26 Цит. по: Ваксберг А. Царица доказательств. Вышинский и его жертвы. — М, 1992. —
С.48.
27 Ларин А.М. Государственные преступления. Россия. XIX век. — Тула, 2000. — С.79.
мероприятий в области науки.28 В условиях начавшегося застоя критиковавшаяся ранее традиция возродилась, утверждалось, что по инициативе
В.И. Ленина впервые в истории приступили к государственному планированию научных исследований, выработке и успешному претворению в
жизнь «единой общенациональной политики развития науки». 29 Ни содержание этой программы, ни воплощение ее в правовых актах не раскрывались.
Г.И. Федькин предпринял попытку обозначить основные организационные формы развития сети государственных научных учреждений в исследуемый период:
- преобразование Российской Академии наук и подведомственных ей
учреждений в научные учреждения социалистического типа; укрепление и
дальнейшее развитие Академии наук как высшего государственного научного центра страны;
- постепенное укрепление университетов и других высших учебных
заведений страны; создание материальных и иных условий для развертывания на кафедрах научно-исследовательской работы; создание при ряде
вузов самостоятельных научно-исследовательских организаций;
- создание и постепенное укрепление и развитие научно-исследовательских учреждений, призванных решать задачи идеологического порядка;
- создание и постепенное укрепление отраслевых научно-исследовательских институтов для обслуживания нужд народного хозяйства.30
Тема исследования нашла частичное отражение в работах ряда авторов, в центре внимания которых находилось законодательное регулирование деятельности советских учреждений культуры, а также история отдельных органов государственного руководства культурным строительством.31 В историко-правовой литературе дана характеристика деятельности
органов управления наукой, в частности Государственной комиссии по
просвещению и Народного комиссариата просвещения РСФСР, к ведению
которого относилось «заведование научными и учебными учреждениями,
имеющими общегосударственное значение, и окончательное разрешение
спорных вопросов и конфликтов, возникающих между отдельными органами просвещения».32
28 Смирнов И.С. Ленин и советская культура. Государственная деятельность
В.И.Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 г. — лето 1918 г.). —
М., 1960. — С.37, 38.
29 Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. — Киев, 1970. — С.13.
30 Федькин Г.И. Правовые вопросы организации научной работы в СССР. — С.33.
31 Шейко В.Н. Развитие системы государственного руководства культурным строительством (Из истории Наркомпроса РСФСР. 1926-1932 гг.): Дис…. канд. ист. наук. — М.,
1971; Теплова Е.Ф. Декреты Советской власти — источники по истории политики в области культуры, 1917-1920 гг.: Дис. … канд. ист. наук. — М., 1991 и др.
32 История отечественного государства и права. Ч.2. — 2-е изд. / Под ред.
О.И.Чистякова. — М., 1997. — С.40-41.
По мнению А.Ф. Шебанова, в истории СССР был период (1917–
1936 гг.), когда законодательные функции, согласно действовавшей тогда
Конституции, осуществлялись несколькими органами. Это обстоятельство
диктовалось отсутствием развитой законодательной системы и суровыми
условиями классовой борьбы переходного периода, которые требовали существования наряду с представительным органом, собиравшимся периодически для решения законодательных вопросов, повседневно работающего органа исполнительной власти, осуществляющего текущую законодательную работу.33 В этом плане необходимо заметить, что в указанный
А.Ф. Шебановым период действовали две конституции: РСФСР 1918 г. и
СССР 1924 г. Отмеченная данным автором закономерность ведомственного
правотворчества проистекала из широко распространенного в среде советской правящей элиты отказа от принципа разделения властей, сращивания
советского аппарата управления с партийным, гипертрофированного развития исполнительной власти.
В конце 50-х гг. XX века в отечественном правоведении подвергалась
критике точка зрения, высказанная Л.И. Петражицким о том, что правовая
нормировка жизни университетов и академий должна основываться на
принципе «немешания», предоставления этим учреждениям и их членам
права действовать сообразно их естественным устремлениям. Г.И. Федькин
утверждал, что социалистическое государство не могло принять этого
принципа как основы развития законодательства об организации научной
работы, ибо одно «немешание» не смогло бы обеспечить необходимого для
строительства нового общества темпа развития науки.34 С его точки зрения,
государство активно вмешивалось в организацию научных исследований, а
правящая партия давала «руководящие указания по вопросам правового регулирования научной работы».35
В научной литературе высказана гипотеза о наличии двух тенденций
по отношению к Академии наук после Октябрьской революции: одна сводилась к стремлению заменить Академию другими структурами, жестко и
непосредственно подчиненными центральным властям и лишенными любых остатков академических свобод; другая тенденция власти была направлена на постепенное подчинение Академию наук контролю со стороны
Политбюро ЦК ВКП (б) и правительства.36 Аналогичные подходы существовали в большевистском руководстве и в отношении университетов, причем стремление лишить университеты всякой автономии одержало верх. 37
33 Шебанов А.Ф. Форма советского права. — М., 1968. — С.144.
34 Федькин Г.И. Правовые вопросы организации научной работы в СССР. — С.22.
35 Там же. — С.20, 27.
36 Предисловие. // Академическое дело 1929 — 1931 гг. — Вып.1. Дело по обвинению
академика С.Ф.Платонова / Отв. ред. В.П.Леонов. — Санкт-Петербург, 1993. — С.XIIIXIV.
37 Аврус А.И. Российские университеты и власть в переломный период (революция
1917 г. и гражданская война). // Интеллигенция России и Запада в XX-XXI вв.: выбор и