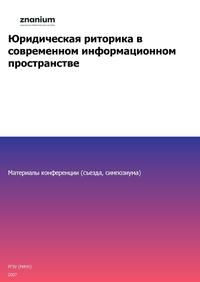Юридическая риторика в современном информационном пространстве
Материалы Международной научно-практической конференции 19 октября 2007 г.
Покупка
Новинка
Основная коллекция
Издательство:
РГЭУ (РИНХ)
Год издания: 2007
Кол-во страниц: 240
Дополнительно
Вид издания:
Материалы конференций
Уровень образования:
Аспирантура
ISBN: 978-5-7972-1180-8
Артикул: 858872.01.99
В материалах Международной научно-практической конференции «Юридическая риторика в современном информационном пространстве» рассмотрен широкий круг проблем, связанных с функционированием языка права, перспективами развития риторики права в современном информационном пространстве, тенденциями в развитии современного российского законодательства, политической культурой, формами цивилизационно-культурного диалога в современном информационном обществе. Особое внимание было уделено месту и роли образования в трансформируемом российском обществе, лингвистическим и общегуманитарным дисциплинам в системе
подготовки студентов. Адресуется специалистам в области риторики, лингвистики, юриспруденции, философии, культурологии, социологии и психологии.
Тематика:
ББК:
УДК:
- 378: Высшее профессиональное образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров
- 81: Лингвистика. Языкознание. Языки
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 45.03.02: Лингвистика
- Аспирантура
- 40.06.01: Юриспруденция
- 45.06.01: Языкознание и литературоведение
- 51.06.01: Культурология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ КОММУНИКАТИВИСТИКИ ЮРИДИЧЕСКАЯ РИТОРИКА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ Материалы Международной научно-практической конференции 19 октября 2007 г. Ростов-на-Дону 2007
УДК 378 + 82 Ю 70 Ю70 Юридическая риторика в современном информационном пространстве : материалы Международной научно-практической конференции 19 октября 2007 г. / Ростовский гос. экон. ун-т «РИНХ». — Ростов н/Д, 2007. — 237 с. ISBN 978-5-7972-1180-8 Редакционная коллегия: В.С. Золотарев (ответственный редактор), И.В. Рукавишникова, Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова В материалах Международной научно-практической конференции «Юридическая риторика в современном информационном пространстве» рассмотрен широкий круг проблем, связанных с функционированием языка права, перспективами развития риторики права в современном информационном пространстве, тенденциями в развитии современного российского законодательства, политической культурой, формами цивилизационно-культурного диалога в современном информационном обществе. Особое внимание было уделено месту и роли образования в трансформируемом российском обществе, лингвистическим и общегуманитарным дисциплинам в системе подготовки студентов. Адресуется специалистам в области риторики, лингвистики, юриспруденции, философии, культурологии, социологии и психологии. УДК 378 + 82 Утверждено в качестве материалов конференции редакционно-издательским советом Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» ISBN 978-5-7972-1180-8 © Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2007
РАЗДЕЛ I. РИТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ Хазагеров Г.Г. ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ РИТОРИКИ ПРАВА После возвращения риторики в поле фундаментальных и прикладных наук обнаружились две актуальные проблемы, связанные с риторикой права. Первая проблема актуальна для мировой науки в целом, вторая приобретает особенную интеллектуальную и социальную остроту в условиях российской действительности. Первую проблему можно обозначить как перенос центра тяжести с риторической элокуции на риторическую инвенцию. Как известно, элокуция занималась языком ораторской речи, ее ядром была теория тропов и фигур; сюда входили также теория стилей и так называемая теория соединения слов. Инвенция, буквально «нахождение», занималась «изобретением мыслей», поиском аргументов, простраиванием концептуального пространства речи. В ведении инвенции находились теория общих мест и теория статусов. Современная отечественная риторика права сводится к судебному красноречию, а последнее изучается даже не столько в аспекте риторической элокуции, сколько в аспекте культуры речи. Нельзя сказать, чтобы такое изучение не было актуальным. Современная практика судоговорения до сих пор заметно отстает от высоких образцов судебного красноречия дореволюционной России, где эта форма красноречия расцвела после введения суда присяжных и испытала на себе мощное влияние художественного слова. В свою очередь русское судебное красноречие повлияло на красноречие парламентское и через думские выступления заметным образом воздействовало на политическую риторику, особенно на риторику либеральнодемократического направления. Политическая риторика левых партий пошла по другой линии развития: a priori навязывая свой язык и свое видение мира, она действовала методом навешивания ярлыков. Этот же метод усвоила и советская судебная практика периода печально известных процессов тридцатых годов. Чтобы убедится в этом, достаточно обратиться к речам В.Я. Вышинского. Приемы советской судебной практики подробно проанализированы в работе Э. Лассан [1]. Все это объективно снижало требования, предъявляемые к языку судоговорения. В дальнейшем на качестве судебного красноречия сказались и общее снижение уровня речевой культуры, и пробелы в гуманитарном образовании. На сегодняшний день лучшим учебным пособием по судебному красноречию, безусловно, следует считать «Основы судебного красноречия» Н.Н. Ивакиной, где ощутима связь с риторической традицией прошлого [2]. Однако и в этом пособии не уделено достаточного внимания инвенции и заметен досадный дрейф в сторону культуры речи. В книге В.В. Одинцова в качестве основной темы заявлена стилистика [3]. В пособии Л.И. Введенской и Л. Г. Павловой эта тенденция ощущается гораздо сильнее, но при этом еще и утрачивается связь как с собственно риторикой, так и с судебным красноречием как специфической практикой юридической жизни. Культура речи и стилистика тем и отличаются от риторики, что не обращаются к содержательной стороне речи. А именно такое обращение способно сегодня реально продвинуть вперед изучение юридической риторики. Уже Х. Перельман, бельгийский ученый, с именем которого связано возрождение риторики в шестидесятые годы двадцатого века, писал, что юристу важнее овладеть искусством убеждать, чем «слогом цветистым и выспренним» [5]. Революционным оказался подход, предложенный Теодором Фивегом, сделавшим акцент именно на инвенции, а точнее, на топике [6].
Риторическая топика тесно связана с самими основами юридического мышления, поскольку служит мостиком, соединяющим дедуктивный подход к жизни, подведение частного казуса под общее правило, с подходом индуктивным, идущим от прецедента, понимаемого как образец, в риторических терминах – парадигма. Вне всякого сомнения, изучение теории общих мест как части инвенции существенно обогащает юридическую риторику. Теория статусов (другая часть инвенции) связана с юридическим красноречием еще более непосредственным, хотя и более тривиальным образом. Напомним, что статусы понимались античной судебной риторикой как последовательно выставляемые линии защиты. Но и о статусах из сегодняшних курсов судебного красноречия узнать ничего нельзя. Наконец, инвенция занималась логической и психологической убедительностью речи (логическими и риторическими силлогизмами, по Аристотелю). А на стыке инвенции и диспозиции (теории расположения частей ораторской речи) был разработан богатый арсенал риторических средств, имеющий прямое отношение к юридической практике. Речь идет о риторической анатомии и ее разновидностях, т.е. об умении препарировать проблему, членить ее на части, сводить к ряду альтернатив и т.п. Некоторые принципы риторической анатомии используются в сегодняшнем коммуникативном менеджменте, часто без всяких ссылок на риторические источники. И все же главной проблемой остается именно проблема усвоения современной юридической риторикой теории общих мест. Одним из преимуществ риторического мышления, глубоко проанализированного академиком С.С. Аверинцевым [7], является его стремление к исчерпыванию всего понятийного поля, связанного с заявленной проблемой. Этому исчерпыванию и учит теория общих мест. Прежде чем готовить выступление (письменное или устное) по тому или иному поводу, необходимо «прощупать» все понятийное поле, дабы действовать не вслепую, наталкиваясь на непредвиденные контраргументы, а имея перед собой четкую когнитивную карту проблемы. Поэтому приоритетным направлением научных поисков в области юридической риторики является использование аппарата риторической инвенции применительно к сегодняшним правовым и информационным реалиям. А в учебные пособия по судебному красноречию следует включать разделы, посвященные риторической инвенции, в особенности теории общих мест. Серьезной проблемой отечественной словесности остается язык права. Эта проблема также никак не может быть сведена к культуре речи, тем более к культуре судебной речи. Риторика права при ее широком понимании включает в себя риторику конституционных текстов, преамбул к законам и т.д.– словом, риторику правовых документов. Здесь уместно говорить о риторике, поскольку подобные тексты, бесспорно, имеют риторическую составляющую, ибо направлены на персуазию, убеждение. В этом отношении, однако, встают вопросы скорее языка, чем речи. Это проблема ключевых правовых концептов, их внятности и убедительности и их языкового воплощения. По сути дела это проблема легитимности самого правового языка. Хотя церковнославянский язык играл в русской культуре роль, близкую к той, которую играла для европейских языков латынь, полной аналогии тут тем не менее не наблюдается. Латынь была не только языком религии, источником высоты стиля и представлений о высшей справедливости, но еще и языком науки, мерилом точности словоупотребления, матерью терминологии и не в последнюю очередь языком самого права с непосредственной опорой на римские образцы. Церковнославянский язык, будучи языком религии и морали, резко отличался от делового языка Древней Руси и даже противостоял ему. Язык «Русской Правды» максимально далек от языка житий и
торжественных слов. Языком науки церковнославянский язык также не стал, хотя такие попытки при формировании светской науки и предпринимались. Славяно-русское двуязычие отражало антитезу сакрального (славянское, в основе южнославянский язык) и профанного (русское, в основе восточнославянский язык). Лакуны правового языка, как и языка науки вообще, были заполнены той же латынью, которая в народном сознании никогда не ассоциировалась с сакральным, но воспринималась религиозным сознанием как чуждое, еретическое начало, «поганая латина». В результате правовой язык оформился в русской культуре как сложный конструкт, опирающийся на высокий славянский элемент и одновременно на латинскую терминологию с ее отработанной точностью. При этом бытовые реалии имели связь с разговорным языком, прошедшим фильтры канцелярий, т.е. с ненавистным языком приказных, «крапивного семени». К этому надо добавить и то, что приказные как социальная страта не были связаны ни с дворянской культурой и ее рафинированной литературой, ни с культурой духовенства, освященной авторитетом Писания, ни даже с народной, фольклорной культурой, нашедшей отражение в пословицах и поговорках. В этих пословицах мы не обнаружим положительного образа суда, судьи и даже самого закона. Противоречивость правового языка, его попытки увязать высокую церковную патетику с административными реалиями стали предметом сатиры М.Е. СалтыковаЩедрина, имевшего огромный административный опыт и хорошо знавшего историю русской словесности. Разумеется, Щедрин писал сатиру не на сам язык, а на административную практику, в которой закон подменялся волей «начальства». Но при этом сатирик очень точно диагностировал все несовершенство языка, призванного эту практику обслуживать. Положение дел стало выправляться в пореформенной России, когда не только действовали суды присяжных, но и начал складываться, разумеется, не в последнюю очередь благодаря успехам художественной литературы и литературной критики, общественно-правовой язык. Констатируя это, необходимо, однако, сделать две оговорки. Во-первых, этот язык был лишь отчасти ассимилирован официозом. Часть его спектра, для власти неприятного и неприемлемого, оставалась за бортом официального языка. Во-вторых, этот язык не смог стать достоянием всего народа, который попрежнему довольствовался максимами вроде известного выражения «закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло» и где стойко держалось отвращение не только к суду, но и к деловой жизни как таковой, к «бумажкам». Риторика большевиков очень умело воспользовалась этой лакуной. «Революционная законность» утвердилась благодаря правовому невежеству народа, глухоте царской власти к переменам и слабости либерально-демократической риторики, не сумевшей популяризировать сложившийся к этому времени правовой язык. Но если лакуна в языке права дореволюционной России дала большевикам исторический шанс остаться у власти, то сами они получили весьма неблагоприятные стартовые условия в отношении языка права, обслуживающего нужды собственного государственного строительства. Впоследствии советский правовой язык проделал определенную эволюцию, но проблемы, названные нами выше, продолжали оставаться актуальными. Не сняты они и до сих пор. Это обстоятельство порой инициирует лингвистические поиски довольно авангардного характера. Так, известный правозащитник Валерий Абрамкин даже предлагает использовать для написания правовых текстов воровской жаргон, ссылаясь на его понятийную определенность и общепризнанность (в частности, существует даже адаптированная к языку «понятий» Декларация прав человека). Такие на первый взгляд курьезные начинания объясняются недоступностью правового языка для большинства населения, что, по справедливому мнению Валерия
Абрамкина, делает судебную практику крайне неэффективной. В качестве положительного примера Абрамкин рассматривает работу Парижского трибунала и отечественную практику тюремных «разборок». В обоих случаях, по утверждению правозащитника, простые люди хорошо понимают правовую суть происходящего. То, что предлагается Абрамкиным, конечно, не выход, ибо толкование справедливости «по понятиям» опирается на весьма упрощенную и, как показывают современные исследования, инфантильную картину мира. Однако случай с Парижским трибуналом подтверждает, что систематическая работа над языком, в течение веков (!) бывшая во Франции предметом и государственной, и общественной заботы, приносит свои плоды. Проблема языка права – это не только проблема его понятности. Это еще и проблема его приятия. В свое время известный лингвист Э. Сепир писал об особой «антиинституциональности» русских, которые хотят, чтобы все было «душевно» и не доверяют «бумажкам». Дело, по-видимому, не во врожденной предубежденности против писанного закона, но в том, к какому языку этот закон прибегает, чтобы себя выразить, дело в корректности этого языка по отношению к господствующим представлениям, включая и представления о самом языке. Библиографический список 1. Лассан Э. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ, Вильнюс, 1995. 2. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). М., 1999. 3. Одинцов В.В. Стилистический анализ судебного выступления. М., 1973. 4. Введенская Л.И., Л.Г. Павлова. Риторика для юристов. Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 5. Perelman Ch. Le champ de l’argumentation. Bruxellelex, 1970. 6. Vieweg Th. Topics and Law: A Contribution to Basic Research in Law. 1993. 7. Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции, М., 1996. Николаев С.Г. «ГИБКИЙ КОММЕНТАРИЙ» КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕВОДА ИМЕНИ ЛИЧНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ В 1981 году издательством Ростовского госуниверситета был выпущен очередной сборник статей, посвященных языку прозы А.П. Чехова. Среди его материалов можно было прочитать небольшую, объемом всего в шесть неполных страниц, заметку Т.Г. Хазагерова, тогда еще доцента кафедры русского языка РГУ, в заглавие которой был поставлен вопрос: «Нужно ли переводить фамилии чеховских персонажей?» [1] Суть ее сводилась к следующему. В чеховских произведениях, особенно в ранних, при обозначении персонажей широко применяются антономазии, или так называемые «говорящие фамилии». Т.Г. Хазагеров подчеркивает веское исходное положение: семантическая специфика абстрактного имени собственного такова, что его предметно-логическое значение отодвинуто на второй план, в то время как назывное значение является важным компонентом, связанным с содержанием сообщения. Назывное значение не только не поддается, но и, в принципе, не нуждается в межъязыковой передаче. Соответственно, при переводе художественных текстов – по давно утвердившейся и во многом оправданной переводческой традиции – имена собственные оформляются метаграфически, то есть при помощи транслитерации (а еще точнее, – практической транскрипции). Принципиально иначе дело обстоит с антономазиями: в них оба значения сосуществуют «на равных», и предметно-логическое подчас заметно расширяет свои коммуника
тивные возможности и даже заслоняет собою значение собственно назывное. Так, хорошо известно, что «имя собственное в художественном тексте имеет дотекстовый потенциал, который складывается не только из семантики самого имени (этимология, звуковые ассоциации), но и из культурных реминисценций (мифология, фольклор, литература, известные личности)» [2, с. 106]. Показанная ситуация создает все основания для «смыслового конфликта», который возникает всякий раз при необходимости межъязыковой передачи антономазий. С одной стороны, переводить их в общепринятом смысле этого слова (или процесса) нельзя – хотя бы потому, что при этом утраченным окажется национальный колорит имени. Так, едва ли правильно будет передавать фамилию Червяков из чеховской «Смерти чиновника» английским словом Worm – «червь». С другой стороны, игнорировать заложенный автором и присутствующий в них, пускай и имплицитно, семантический «заряд» тоже невозможно: теперь иностранный читатель оказывается несправедливо обделенным тем смысловым богатством, которое намеренно включено автором в структуру имени; воспринимающий субъект, не владеющий языком оригинала, не ощущает связи имени с характером персонажа, его поступками, он не вовлекается в возможную текстуальную языковую игру и т.д. В результате не раскрытым во всей своей полноте может остаться идейное содержание произведения. Какой же ответ ждет читателя заметки на поставленный в заглавии вопрос? По Т.Г. Хазагерову, наиболее адекватный путь решения проблемы предлагает переводчику ремарка – та разновидность вспомогательно-поясняющей информации, которую можно назвать кратким комментарием к определенным фактам литературного произведения, выступающим в нем типичными национально-языковыми реалиями (о понятии лингвистической реалии см. подробно в [3, с. 140-158]). Проблема переводческой ремарки показана в заметке как сложная, многоаспектная, требующая от составителя не просто блестящего знания языка оригинала (в скобках заметим, что переводчиком в абсолютном большинстве случаев выступает носитель языка перевода, но не языка оригинала), но также идиостиля переводимого автора. Переводчик в достаточной мере должен обладать профессиональным мастерством, подразумевающим, помимо прочего, тонкое культурно-языковое чутье, развитую интуицию, которые помогли бы ему подойти к каждой, любой манифестации антономазий глубоко индивидуально. Прежде всего переводчику всякий раз предстоит решать вопрос о целесообразности введения ремарки при имени персонажа; далее возникает проблема места переводческой ремарки, которая может быть дана при первом же упоминании имени или же, в иных случаях, лишь тогда, когда (и если) его предметнологическое значение «обыгрывается» в тексте. Иными словами, теория ремарки переводчика показана Т.Г. Хазагеровым как совокупность, система взаимосвязанных проблем, ждущая своей дальнейшей разработки. Релевантность вопроса межъязыковой передачи семантической специфики имен личных видится еще и в особом значении и художественном назначении их суффиксальных форм (содержательный анализ подобных случаев в русско-французских переводах приведен в статье [4]). Поднятая проблема, вопреки своей очевидной актуальности, до сих пор остается малоизученной и, в целом, неразработанной; неизбежно возникающие в практике художественного перевода вопросы межъязыковой передачи антономазий решаются стихийно и далеко не всегда удачно. При условии подобного сохранения проблемы, связанного, скорее всего, с ее недостаточной оценкой в целом, отношение к ней со стороны как практических переводчиков, так и теоретиков-текстологов нельзя назвать однозначным. Приведем здесь только два мнения, которые, на первый взгляд, идут вразрез с теорией ремарки Т.Г. Хазагерова, поскольку отвергают возможность переводческого комментирования
в «хорошем переводе» или, во всяком случае, воспринимают комментарий к переводной реалии как фактор, снижающий качество перевода (и, соответственно, «автоматически» свидетельствующий о невысоком уровне мастерства переводчика). Первое мнение принадлежит известному итальянскому писателю, исследователю текстов, семиологу, переводчику Умберто Эко; фигурирует оно в его исследовании о переводе: «Бывают такие утраты, которые можно назвать абсолютными. Это те случаи, когда перевод невозможен; и если случаи такого рода встречаются, скажем, в романном повествовании, переводчик прибегает к ultima ratio: он делает примечание – и это примечание подтверждает его поражение. Пример абсолютной потери дают случаи игры слов» [5, с. 110]. Второе высказывание принадлежит специалисту по теории художественной речи В.И. Заике; оно приведено в его недавней монографии и касается комментария (к художественному, т.е. эстетически «нагруженному», тексту) вообще, комментария как категории, снижающей ценность текста – завершенного результата, конечного итога творческих усилий автора. В целом не оспаривая необходимости комментариев как таковых, этот исследователь считает, что подобный «информационный кортеж» способен легко превратиться в «конвой», который устранит «смятение чувств» и «свободу связей» – обязательные условия эстетического переживания [6, с. 345]. Со своей стороны напомним, что ремарку-комментарий не следует считать элементом текста, подобно эпиграфу или послетекстовым топониму и хронониму, информирующим читателя о месте и времени создания произведения. Ремарка – это, скорее, «паратекст», под которым понимают сложную систему околотекстового окружения, в чей состав включены предисловие, послесловие, введение, комментарии – вплоть до сигнальных аксессуаров типа упаковки, суперобложки и т.д. (термин «паратекст» принадлежит Жерару Женетту; разработку понятия см. в его книге [7, с. 9 и далее]). В нашем стремлении к наиболее рациональному, оправданному прежде всего теоретически, но также и подтвержденному переводческой практикой (закрепленному в ней?) решению проблемы мы обратились к, на наш взгляд, достаточно яркому, показательному и поучительному примеру. Речь идет о переводе на русский язык известной пьесы английского драматурга эпохи Просвещения Джона Гея «Опера нищего», выполненном П. Мелковой (см. издание [8]; оригинальный текст см. в [9]). Внимание сосредоточим на Dramatis Personae пьесы и особенностях их передачи на русский язык. Для удобства, простоты восприятия и сопоставления фактов двух текстов – оригинального и переводного – межъязыковые пары (соответствия) разместим в таблице. О Р И Г И Н А Л П Е Р Е В О Д Mr. Peachum, Mrs. Peachum, Polly Peachum Пичем, миссис Пичем, Поли Пичем Lockit, Lucy Lockit, Macheath, Filch, Diana Trapes Локит, Люси Локит, Макхит, Филч, Диана Хапп Macheath's Gang: Jemmy Twitcher, Crook-Finger'd Jack, Wat Dreary, Robin of Bagshot, Nimming Ned, Harry Padington, Mat of the Mint, Ben Budge Шайка Макхита: Джемми Дергунчик, Джек Кривопалый, Уот Зануда, Робин Хапуга, Нед Карманник, Гарри Кусочник, Мэт Кистень, Бен Пройдоха Women of the Town: Mrs. Coaxer, Dolly Trull, Mrs. Vixen, Betty Doxy, Jenny Diver, Mrs. Slammekin, Sukey Tawdrey, Molly Brazen Проститутки: Миссис Сплетни, Долли Дай, миссис Аспид, Бетти Стибри, Дженни Козни, мисссис Скот, Сьюки Сопли, Молли Нагли Beggar, Player, etc. Нищий, Актер и другие
В завершающей части русской версии «Оперы нищего» Гея, при «Действующих лицах» пьесы, приведен следующий комментарий И. Ступникова: «Все имена в пьесе “значащие”. Например, Пичем (от англ. peach them, peach-impeach) – обвинять и преследовать; Макхит (Macheath) – сын вересковой пустоши; Локит (lock) – притон, где скупают краденое и т.д. Следует упомянуть, что “значащие имена” – характерный прием классической комедии вообще. Свое наибольшее распространение он получил в эпоху Просвещения во всех европейских странах, в том числе и в России (наиболее яркий пример – «Недоросль» Фонвизина)» [8, с. 201]. Даже при самом беглом взгляде на показанные соответствия нетрудно заметить, насколько тщательно переводчик подошел к решению вопроса передачи на русский язык имен английских персонажей, – прежде всего потому, что вся эта лексика «значащая». Но здесь явственно видно и другое: пути и способы межъязыковой передачи неодинаковы, они во многом зависят от специфики той или иной оригинальной лексемы и ее роли в пьесе – равно как и роли обозначаемого ею персонажа. И здесь можно попытаться построить типологию указанных способов. За основу может быть принято то положение, что каждое из русских соответствий способно рассматриваться как заключающее в себе или представляющее собой своего рода комментарий к английскому прототипу. В результате получаем четыре достоверные и полноценные разновидности комментирования предметно-логического значения «говорящего» имени в переводе. С учетом очевидных типологических различий между ними все они могут быть объединены общим понятием «гибкий комментарий». Продемонстрируем их последовательно. 1. Метаграфическая передача английской фамилии средствами кириллического алфавита (главные герои пьесы по фамилии Peachum – Пичем, персонажи «второго ряда» Lockit – Локит, Macheath – Макхит). Полная утрата в переводном тексте богатой внутренней формы исходной лексемы – при несомненном сохранении национального колорита – диктует необходимость введения в книгу подробного поясняющего комментария (см. выше). В этом «новом» тексте, адресованном исключительно русскоязычному читателю, не только приводится английский прототип, раскрывается его значение (Peachum – peach them – обвинять и преследовать, Lockit – lock [it] – притон), но также говорится о «значащем» имени как о приеме классической комедии в целом; для полноты сведений – и с учетом целевого читателя – проводится сравнение с известнейшей русской комедией классициста Д.И. Фонвизина. Особо важно, что комментарий отнесен на «максимальное расстояние» от комментируемого эпизода: он дан не при каждом имени, не внизу соответствующей страницы, но в конце книги. 2. Сочетание транслитерации первого имени (англ. first name) с переводом прозвища (второстепенные персонажи Jemmy Twitcher – Джемми Дергунчик; CrookFinger'd Jack – Джек Кривопалый). Обратим внимание на следующую особенность: если двухсловные английские имена демонстрируют заметное разнообразие синтаксических моделей (Ben Budge: N + N; Robin of Bagshot: N + of + N; Crook-Finger'd Jack: PartII + N; Wat Dreary: N + Adj и т.д.), то синтаксическая организация соответствующих русских сочетаний достаточно однообразна (Джемми Дергунчик, Уот Зануда, Робин Хапуга, Нед Карманник: N + N; и только Джек Кривопалый: N + Adj). Важно здесь другое: все русские соответствия сохраняют английскую двухчастную семантическую структуру «имя личное» + «(эмоциональная) характеристика именуемого субъекта». Носителем английского колорита в русских эквивалентах выступает исключительно имя личное; второй элемент именования им не обладает: в национальном отношении он нейтрален. Комментарий к имени может усматриваться во второй, характеризующей лексической компоненте; в переводе он «уложен» в семантику прозвища и передан достаточно точно.
3. Сочетание транслитерации первого имени с эмоционально-оценочной передачей характеристики его носителя, стилизованной под имя личное. К данному типу относятся все переводы имен проституток, также выступающих в пьесе персонажами второстепенными. Выделяющей этот разряд характеристикой является то, что ярко выраженным носителем национального колорита теперь можно считать обе части имени, но особо необычной, оригинальной в этом отношении следует признать вторую часть, поскольку в ней не только заключена характеристика лица («свернутый» авторский, а вслед за ним и переводческий комментарий): именно в ней создается лингвистическое основание для отнесенности имени к определенному этносу и культуре. Так, лексемы Сплетни, Стибри, Козни, Сопли и т.д. несут конечную гласную [и], воспринимаемую как иноязычная финаль, передающая английский суффикс -y (-ey). Большинство этих слов двусложны и имеют ударение на первом слоге, что вполне укладывается в английскую фонологическую систему. Односложное слово Дай также вызывает «английские» ассоциации своим звучанием (ср. с англ. day); но в то же время явственно ощутима его озорная, на грани дозволенного и запрещенного, русскоязычная семантика: «Дай!» – это и требовательный оклик попрошайки, и словечко, вполне уместное в обращении к девице легкого поведения. То же можно сказать и о Скот (ср. с фамилией Scott) – с той разницей, что транслитерированное Scott выглядело бы как Скотт, а в нашем случае удвоение конечной согласной намеренно снято с целью создания внутренней семантической формы в русском аналоге (ср. с русским скот). В результате в русском переводе уже возникают не прозвища (таковым здесь будет, пожалуй, только Аспид), но квазифамилии, имитирующие звучание фамилий английских. Важно и то, что если прозвища мужчин – членов шайки Макхита переводились достаточно точно, то теперь в смысловой эквивалентности особой необходимости нет: на сей раз переводчик ставит и решает гораздо более масштабные задачи (ср. Doxy – устар. попрошайка, нищенка; бродяга и русское Стибри; Diver – разг. вор-карманник и русское Козни; Tawdrey, Tawdry – мишурный, кричаще безвкусный и русское Сопли). Более того: все эти остроумные находки переводчика, помещенные в начале пьесы единым блоком, «списком», создают необычайно яркий образ веселой, шумной и пестрой толпы женщин легкого поведения, представительниц социальных низов Англии конца XVII – начала XVIII веков. 4. Наименее значимые персонажи обозначены не именами личными, но по своей отнесенности к данному виду деятельности или к данной профессии (Beggar, Player). Разумеется, эти именования переданы на русском языке традиционным переводным способом – Нищий, Актер. Показанный и проанализированный русский перевод имен персонажей «Оперы нищего» имеет в рамках настоящего исследования то значение, что позволяет сделать вполне определенные выводы о лингвистической ценности и возможных путях ее сохранения при межъязыковой передаче имен личных в художественном тексте. Прежде всего, совершенно очевидно, что имя личное как результат творческих поисков автора текста и, одновременно, культурно-языковой артефакт определенного социума в определенный период его развития обладает мощным семантическим потенциалом, который ни в коем случае не ограничивается номинативным значением словаимени. Этот потенциал не должен быть утрачен при переводе текста в иную национально-языковую систему, т.е. на иной язык. При этом переводчик может пользоваться обширным выбором приемов и средств, предоставляемых ему именно «гибким комментарием». Категорию «гибкого комментария» следует рассматривать широко и одновременно по возможности конкретно в случае его приложения к различным манифестациям имен в тексте. Так, комментарий может быть вынесен за пределы текста и включать в