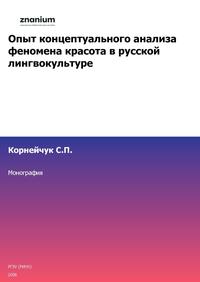Опыт концептуального анализа феномена "красота" в русской лингвокультуре
Покупка
Новинка
Основная коллекция
Тематика:
Общие вопросы. Лингвистика
Издательство:
РГЭУ (РИНХ)
Автор:
Корнейчук Светлана Петровна
Год издания: 2006
Кол-во страниц: 128
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 5-7972-1076-2
Артикул: 858641.01.99
Монография посвящена одной из самых интересных и сложных проблем в лингвистике — проблеме «концепт» — и представляет собой разработку новой концепции лингвокультурологических исследований. На материале русского языка исследовано концептуальное поле феномена красота, а также «реконструировано» его осмысление в старославянском языке, который послужил моделирующим фактором русской культуры, потому что именно язык религии, его ценностные императивы обусловили своеобразие русской ментальности и конпептосферы.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» С.П. КОРНЕЙЧУК ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА «КРАСОТА» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ Монография Ростов-на-Дону 2006
УДК 4
Корнейчук С.П. Опыт концептуального анализа феномена «красота»
в русской лингвокультуре: Монография / Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». — Ростов-на-Дону, 2006.
— 122 с. — ISBN 5-7972-1076-2.
Монография посвящена одной из самых интересных и сложных проблем в лингвистике — проблеме «концепт» — и представляет собой разработку новой концепции лингвокультурологических исследований. На материале русского языка исследовано концептуальное поле феномена красота, а также «реконструировано» его осмысление в старославянском языке, который послужил моделирующим фактором русской культуры, потому что именно язык религии, его ценностные императивы обусловили
своеобразие русской ментальности и концептосферы.
Рецензенты:
доктор филолог. наук, профессор О.В. Коновалова РГЭУ « РИНХ»
доктор филолог. наук, профессор А.П. Шаповалова РИИНяз
УДК 4
К 67
Печатается по решению редакционно-издательского совета РГЭУ
«РИНХ».
ISBN 5-7972-1076-2
© Ростовский государственный
экономический университет
«РИНХ», 2006
© Корнейчук С.П., 2006.
К 67
Оглавление ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................4 ГЛАВА I. КОНЦЕПТ КАК ФИЛОСОФСКАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА...........................................7 1.1 Обоснование методологии лингвокультурологического анализа концепта красота.......................................................................................7 1.2 Гносеологические методы концептуализации красоты в русской лингвокультуре........................................................................12 Выводы по главе I...........................................................................................15 ГЛАВА II. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ КРАСОТЫ (РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КРАСОТЫ) .........16 2.1 Краткая суть христианской эстетики Дионисия Ареопагита...............16 2.2 Влияние ареопагитики на эстетическое сознание древних славян .....20 2.3 Прекрасный человек в древнерусском языковом сознании..................32 2.4 Филокалия в аксиосфере допетровской Руси........................................35 2.5 Концептуальное поле красоты в старославянском и древнерусском языках (Лексико-семантический анализ старославянских и древнерусских слов с семой красота)..................37 Выводы по главе II..........................................................................................41 ГЛАВА III. РАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ КРАСОТЫ......................................................................................43 3.1 Философско-эстетические концепции красоты ...................................43 3.2 Теолого-философские доктрины красоты конца 17 в..........................44 3.3 Философско-эстетические теории просветителей 18 в. .......................49 3.4 Материалистические концепции в эстетике 19–20 вв. .........................56 Выводы по главе III ........................................................................................62 ГЛАВА IV. ХУДОЖЕСТВЕННО-ИНТУИТИВНЫЙ МЕТОД КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ) ...........................................64 4.1 Краткая суть художественно-интуитивного (эстетического) метода познания............................................................64 4.2 Художественно-интуитивное осмысление феномена женская красота мастерами русского слова ........................................70 4.3 Художественно-интуитивное осмысление феномена красота природы русскими поэтами и писателями.............................90 4.4 Эстетика быта в русской аксиосфере ...................................................108 Выводы по главе IV......................................................................................112 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...............................................................................................113 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.............................................................115
ВВЕДЕНИЕ Красота — это тот феномен, который «доставляет наслаждение взору, слуху; все красивое и прекрасное» (Ожегов, с. 245), а следовательно, не оставляет людей равнодушными: красоту созерцают, ею восхищаются, ее творят, о ней говорят... Нам представилось интересным рассмотреть это явление с точки зрения лингвокультуроведения, то есть через призму языка и культуры. Под лингвокультурой мы понимаем гуманитарную дисциплину, возникшую на стыке лингвистики и культурологии, исследующую проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. Другими словами, мы хотим реконструировать и понять, пользуясь фактографией языка, отношение русских к феномену красота, который в лингвокультуроведении называется концептом и относится к предельным понятиям, обладающим максимальной степенью абстрагирования. И это не случайно. В период сложнейших процессов в культуре 21 века, ломки многих традиционных представлений, пересмотра ряда духовных ценностей особую значимость приобретает задача формирования здоровых и высоких эстетических вкусов. Обращение к отечественному художественно- эстетическому наследию, запечатленному в слове или, другими словами, к базовым концептам культуры, материализованным в летописях, богословских и философских трактатах, классических текстах, сегодня особенно важно, потому что реконструкция и осмысление этого феномена может служить прекрасным воспитателем чувств высокой нравственности и духовности, а также оптимизации межкультурного общения и взаимопонимания. В науке о языке накопилось достаточно много информации, требующей осмысления в лингвофилософском аспекте, и в этом смысле в соответствии с традицией, идущей от Гумбольдта, многие современные исследователи понимают язык как явление, в котором сконцентрировано и закодировано осмысление национального коллективного опыта. По данным языка открывается уникальная возможность понять миропонимание народа как в диахронии, так и в синхронии. Ибо язык не просто средство общения, но носитель духовных ценностей, в нем запечатленных. Издревле народ на Руси называли языком. У преподобного Нестора летописца (XI в.) нет даже слов: народ, племя, а только язык. Народ и язык — понятия, нераздельно слитые, неотъемлемые, как тело и душа. Усваивая родной язык, ребенок усваивает духовность и культуру, жизненный опыт своего народа. Язык — Среда обитания народа, воздух, которым он дышит. Позволительно усомниться, что английский философ Джон Локк (1632–1704) сделал открытие, сказав, что у человека нет прирожденных чувств, идей, качеств характера, что он рождается tabula rasa, и тем, чем он становится, человека делает опыт жизни и прежде всего воспитание. Революционные демократы на этом строили все свои теории. И впрямь: если человек есть чистая доска, на которой внешние обстоятельства оставляют свои письмена, то надо лишь добиться, чтобы благо
приятные обстоятельства запечатлевали в душах благие начертания. Но человек не рождается tabula rasa — иначе все было бы просто. Конечно, историческая эпоха, внешние обстоятельства могут влиять на человека, тянуть его к добру или злу, но окончательный выбор человек делает сам, опираясь на духовный и генетический опыт своих предков и этноса. Принцип социального детерминизма без религиозного осмысления проблемы несет в себе основу ложного осмысления бытия. Вклад в изучение взаимосвязи языка, мышления, религии и культуры внесли Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, В.В. Колесов, А. Вежбицкая, Н.Б. Мечковская (1998), Ю.А. Гвоздарев, Т.В. Евсюкова, Т.Н. Снитко и др.. Предпринимая попытку осмысления концепта красота в русской лингвокультуре, мы осознаем, что данный феномен принадлежит сфере языка, сфере философии (эстетики), религии и культуры в равной мере, поэтому наблюдаем его с учетом сущностной природы и статуса, пользуясь фактографией летописей, лексикографических источников, классических литературных произведений, данных богословия и философии (эстетики). Акад. В.В. Колесов справедливо считает, что «только в с и с т е м е взаимных соответствий ключевых признаков данной культуры, скрытой в глубинах словесного знака, можно воссоздать концепт по следу, оставленному им в классических образцовых текстах <...>» (Колесов, 2000, с.57). Формулу Достоевского из романа «Идиот» «Красота спасет мир», которая стала камнем преткновения для многих умов, не понял даже Вл. Соловьев, он воскликнул: «Страшно даже возлагать на красоту спасенье мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов <...>» (цит. по Гулыга, с. 390). В Новое время значение этой формулы еще больше затемнено — она используется даже в качестве рекламного слогана косметической фирмы «Орифлэйм». Однако смысл ее, по Достоевскому, таков: «Христос спасет мир», об этом можно прочесть в Записных тетрадях писателя 1876–1877 годов: «Христос — 1) Красота, 2) нет лучше, 3) если так, то чудо, вот вся вера». В этом убеждении писатель оставался постоянен. Народ на Руси, вероятно, был тонким душой, в отличие от современных людей, и знал о красоте значительно больше. Летописи и фольклорные произведения — свидетельства тому. среди важных особенностей русского миропонимания, запечатленного в концептосфере, следует отметить ее особую духовность, пристальное внимание к своей духовной сущности, отраженной языком, литературой, иконописью, изобразительным искусством, способность тонко чувствовать и переживать эстетическое. Русский писатель И. Шмелев утверждал, что «Русская культура — «запечатленная» печатью тысячелетий: крещением в Православии. Этим утвердилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения, — <...> Наша литература — тоже «запечатленная": она исключительно глубока, «строга», как, быть может, ни одна из литератур в мире, и целомудренна. Она как бы спаивает — вяжет Землю с Небом. В ней почти всегда — «вопросы», стремленья «раскрыть тайну», попытки найти разгадку
мировых загадок, поставленных человечеству Неведомым: о Боге, о Бытии, о смысле жизни, о правде и кривде, о Зле — Грехе, о том, что будет там... и есть ли там?... <...> Русская литература — не любование «красотой», не развлекание, не услужение забаве, а именно, служение, как бы религиозное служение» (Шмелев И. Т. 7. с. 544–545, 548).
ГЛАВА I. КОНЦЕПТ КАК ФИЛОСОФСКАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 1.1 Обоснование методологии лингвокультурологического анализа концепта красота O, World invinsible, we view thee, O, World intangible, we touch thee. O, World unknowable, we know thee, Inapprechensible, we clutch thee. (Thompson Francis. In no strange land) О, мир невидимый, тебя мы видим, О, мир недоступный, тебя мы касаемся, О, мир неизвестный, тебя мы знаем, Непостижимый, мы постигаем тебя. Френсис Томпсон (1859 -1907) «Не в чужой стране» Теория концепта в настоящее время продолжает привлекать внимание исследователей, несмотря на большое количество работ по данной теме. Но, к сожалению, термин «концепт» постигла судьба слов, используемых в качестве терминов одновремено преставителями разных научных школ и направлений и даже в разных науках, как в точных, так и гуманитарных, а потому чрезвычайно расплывчатых в своем значении. С методологической точки зрения, «концепт — это всего лишь сконструированный абстрактный объект с определенными свойствами». С семиологической точки зрения, «концепт всегда есть нечто конкретное, он одновременно историчен и интенционален», представляет собой «конденсат неоформившихся туманных ассоциаций, хотя и дан как некая ценность» (Ролан Барт). По Н. Бердяеву, концепт — это «ничто, безосновное око вечности», которое есть «начало всего», «излучение из глубины». С коммуникативной точки зрения, восходящей к Гумбольду, концепты выводятся непосредственно из процессов говорения и понимания, в конкретном акте речи это есть общее мысленное содержание, присущее всем, и то, что называется смыслом. По Анне Вежбицкой, «концепт — это объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представления человека о мире «Действительность» (цит. по Колесову 2004, с. 22). Такое понимание феномена «концепт» созвучно с объяснением этого явления М.И. Шахновичем, Ср.: «концепты это посредники между словами и экстралингвистической действительностью «…» (Шахнович, с. 395–396), и отдаленно напоминает учение Вл. Соловьева о Мировой Душе как посреднице между Богом и тварью. В своем идеальном аспекте Мировая Душа, по
Соловьеву, является Софией, Премудростью — началом, соединяющим мир с Творцом. Однако, как справедливо отмечает В.В. Колесов, «с лингвистической точки зрения представления о концепте особенно размыты » (см. об этом Колесов 2004, с. 22). Поскольку наше исследование касается концепта красота и его языковой реализации, то возникла необходимость тщательно разобраться и дать собственное понимание явления «концепт». В этой связи был сделан экскурс в историю возникновения, развития, формирования научного понятия феномена «концепт» и смежных с ним понятий, а именно — «идеи», «универсалии», «символа». Термин «концепт» традиционно связывают с именем французского теолога — схоласта Абеляра (1079–1142), считающегося основателем концептуализма. Заслуга Абеляра в том, что в схоластических спорах об универсалиях он предложил выбрать » золотую середину» между крайним универсализмом (концептуализмом) и крайним номинализмом. Сторонники крайнего концептуализма (Гильом де Шампо) считали, что универсалии (идеи) являются самостоятельными формами, а представители крайнего номинализма (Оккам, Эриуген, Фома Аквинский) утверждали, что они являются лишь языковыми обозначениями, именами (лат. Nomina). Ср.: «Для номинализма универсалии являются простыми словами, именами, которые служат знаками вещей и их свойств, вне мышления ничего, никакой объективной действительности выражать не могут (Губский, с.305). Спор об универсалиях восходит еще к платоновскому «символу пещеры», суть которого в том, что всякое явление действительности рассматривается как тень — символ — знак того, что простому созерцанию недоступно. По Платону, «идеи суть вечные и неизменные, постигаемые не чувственно, а лишь духовно, на основе врожденной способности воспоминания, реально существующие прообразы вещей» (Платон, Т.3, с. 321–323). Противоположную платоновской точке зрения представлял английский схоласт Оккам (1295–1349). В трудах Оккама категорически отрицается существование универсалий, т.е. идей и «признается право на существование только за единичными явлениями (партикуляриями), благодаря чему проблема «принципа неделимости» (principium individuations), в силу которого идея Кота материализуется в бесконечном множестве единичных котов, — этот кошмар, мучивший мыслителей высокой схоластики, растворилась в небытии мыслителей. Как сказал Авреолий, «всякая вещь единственная сама по себе, и никак иначе» (omnis rest est ipsa singularis et per nihil aliud) (цит. по Панофский, с.225). Абеляр выступил против обоих учений с собственной теорией, которую философия обозначила именем концептуализма. Она, повидимому, заключалась в смягченном номинализме: «реальны отдельные предметы, но и общие имена не пустой звук: они соответствуют понятию, концепту, которое, по сравнении отдельных предметов, образует наша мысль и которое имеет своеобразную духовную реальность» (см. об этом
Аверинцев, с. 9). Другими словами, по Абеляру, концепты — это «общие имена», т.е. абстрактные имена существительные, Ср.: «общие имена — «…» соответствуют понятию, концепту». В таком случае нельзя считать концептами имена, называющие конкретные предметы, например, «барабан» или «река». В этом случае мы занимаем позицию сторонников крайнего универсализма и возвращаемся к платоновской теории идей, суть которой положена в основу искусства символизма, главной задачей которого являтся » выявление укрытых за рамками обыденности идей, расшифровки иероглифов жизни, какими представляются все существа бытия, и обнаружение истинного, а не видимого содержания этого бытия» (цит. по Дунаев, т. 5, с. 68). Но здесь возможно возражение: ведь «ключиком» к концепту могут являться не все имена существительные, а только те, которые обладают аксиологическими свойствами, т.е. обладающие ценностными качествами для носителей языка. Ценность мы определяем, по Н.О. Лосскому, как «нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка <…> всякий предмет, даже и предмет внешнего мира, поскольку он вызывает в душевной жизни субъекта некоторые индивидуально-психические переживания, именно, согласно одним теориям, чувство удовольствия (или неудовольствия), согласно другим — желание» (Лосский 1994, с. 250, 256). Однако О.Э. Мандельштам утверждал, что для него «любое слово является пучком, и смысл из него торчит в разные стороны…» (т.е. обладает валерностью — примечание С.К.). По наблюдению исследователя творчества О.Э. Мандельштама Б.А. Каца, таким словом, которое волновало творческое воображение поэта в течение всей его жизни, было имя итальянской певицы Анджолины Бозио, умершей в 1839 году (за 50 лет до рождения поэта) от простуды во время гастролей в Петербурге. Ср.: «Из имени Анджолины Бозио для Мандельштама смысл «торчал» во многие стороны, и, назвав такие из них, как Юг, Север, Европа, Россия, Италия, Петербург, музыка, опера, голос, русская и итальянская речь, девятнадцатый век, католицизм, артистизм, родина, чужбина, странничество, красота, хрупкость, незащищеность, смерть, забвение…» (Мандельштам, с. 10). Как видно из цитаты, имя собственное «Анджолина Бозио» обладает аксиологическими свойствами, окружено ореолом ассоциаций, певица была знаковой фигурой своего времени; писатели Тургенев и Некрасов «по-русски тяжело вздохнули» о безвременной кончине итальянской красавицы — певицы. Возникает резонный вопрос: можно ли считать имя собственное «Анджолино Бозио» или «Буратино» концептами? Если да, то не напоминают ли такие концепты о дискуссии реалистов и номиналистов, в которой оспаривалась идея Кота? И как в этом случае следует относиться к указанию Абеляра на духовный характер данного феномена, о котором говорил схоласт? Ср.: «conseptus есть «производное духа», постижение, т.е. «схватывание» его смыслов требует большого духовного напряжения » (цит. по Воркачев, с. 9
). В.В. Колесов считает, что концептами становятся слова, прошедшие три стадии символизации: образ, понятие, символ. «Таков этот путь к бесконечности, — поясняет В.В. Колесов, — в котором отсутствует все — и референт, и десигнат, и денотат. Именно эту точку недоступного нашему взору постижения их смыслов и значений четвертого измерения мы и назовем концептом» (Колесов, 2004 с.18). Другими словами, если лексема является словом — символом, ее можно считать «ключиком» к концепту. По Ю.А. Гвоздареву, «почти каждое слово как языковой знак символизирует собой то или иное понятие» (Гвоздарев, с. 32). Думается, что только в том случае, когда конкретное имя существительное прошло стадии символизации и стало символизировать «предельное понятие» (или «имя общее», по Абеляру), то его можно рассматривать как «вход» в концепт на том основании, что, став словом-символом, лексема перешла из разряда конкретных имен существительных в разряд абстрактных, т.к. в ее семантике появился элемент абстрактности, позволяющий ей называть концепт или быть знаком концепта, как бы приоткрывать вход в его метафизическую глубину. Например, крест — страдание — воскресение — жизнь. «Называя понятие предельными, — пишет Т.Н. Снитко, — мы имеем в виду наивысшую, максимальную степень абстрагирования, достигаемую мышлением в попытке осмысления мира» или еще — «предельные понятия являются продуктом мышления, достигающего своей высшей точки» (Снитко 1998, с. 3). Сербский богослов и философ преп. Иустин (Попович) подчеркивает архиважность и приоритетность таких феноменов для человека. » А ведь совесть — это нечто невидимое. Если же не так, то покажите мне ее, чтобы я увидел ее своими глазами. Человек идет на смерть за некую мысль, за некую идею. А ведь мысль — это нечто невидимое, идея — нечто невидимое. Если же не так, то покажите, чтобы я увидел своими глазами. Мать своим видимым телом защищает свое дитя от опасности. Ради чего? Ради любви. Но ведь любовь — это нечто невидимое. Если же не так, то покажите мне любовь вашу, чтобы я увидел ее своими глазами. Что такое мысль, что такое ощущение, что такое совесть, покажите мне их, чтобы я увидел их своими глазами в их самостоятельной и вещественно очевидной реальности. Но вы не можете мне их показать, ибо они по своей природе невидимы» (преп. Иустин, 2004, с. 226). По мнению богослова, основное в человеке невидимо, человек живет тем, что в нем невидимо. Когда невидимое покидает человека, тогда его тело умирает. Это невидимое, т.е. душа, и есть источник всей наблюдаемой жизни человека. Происходит это так: «Будем искренны, — пишет преподобный Иустин, — все три мира: и космос, и земля, и человек — представляют собой некие невидимые силы, облеченные в материю. <<...>> Все три видимых мира: космос, земля и человек — всего лишь проекция невидимого в видимом. Видимая природа — это материальная проекция нематериальных, невидимых мыслей Божиих. А человек? Человек — это то же самое и нечто гораздо большее, человек — это видимая проекция