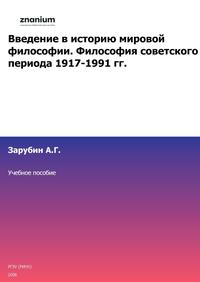Введение в историю мировой философии. Философия советского периода 1917-1991 гг.
Покупка
Новинка
Основная коллекция
Тематика:
Общая философия
Издательство:
РГЭУ (РИНХ)
Под ред.:
Зарубин Александр Георгиевич
Год издания: 2006
Кол-во страниц: 152
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 5-7972-0962-4
Артикул: 858628.01.99
История философии двадцатого века в качестве существенного своего компонента вкдючает философию советской эпохи. В это время активно работали, хотя и в рамках диалектико-материалистической парадигмы, известные ученые и мыслители (М. М. Бахтин, Э. В. Ильенков, А. Л. Чижевский. В. В. Налимов и др.). В их трудах обнаруживается целый ряд оригинальных идей, значение которых выходит за пределы господствовавшей традиции и эпохи.
Учебное пособие подготовлено коллективом кафедры философии Ростовского государственного экономического университета: глава 1 — Зарубин А. Г., глава 2 — Новикова Р. П.. глава 3 — Богданова О. А., глава 4 —
Ананьева К). А., глава 5 — Кирсанова О. Т., глава б — Васечко В. К)., Васечко Е. Н.. глава 7 — Давтян Б. О. Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей. всех, интересующихся духовной культурой.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ (ФИЛОСОФИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 1917—1991 ГГ.) Учебное пособие Ростов-на-Дону 2005
УДК 1 (075)
В 24
Введение в историю мировой философии (Философия советского периода 1917—1991 гг.). Под ред. проф. Зарубина А. Г. — РГЭУ «РИНХ». —
Ростов н/Д, 2006. — с. 152
История философии двадцатого века в качестве существенного своего
компонента включает философию советской эпохи. В это время активно
работали, хотя и в рамках диалектико-материалистической парадигмы, известные ученые и мыслители (М. М. Бахтин, Э. В. Ильенков, А. Л. Чижевский, В. В. Налимов и др.). В их трудах обнаруживается целый ряд оригинальных идей, значение которых выходит за пределы господствовавшей
традиции и эпохи.
Учебное пособие подготовлено коллективом кафедры философии Ростовского государственного экономического университета: глава 1 — Зарубин А. Г., глава 2 — Новикова Р. П., глава 3 — Богданова О. А., глава 4 —
Ананьева Ю. А., глава 5 — Кирсанова О. Т., глава 6 — Васечко В. Ю., Васечко Е. Н., глава 7 — Давтян Б. О.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, всех, интересующихся духовной культурой.
ISBN 5-7972-0962-4
© РГЭУ «РИНХ»
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение .............................................................................................4 Глава 1. «Русский космизм» в XX веке ........................................7 Глава 2. Религиозно-философские идеи митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна (Снычева)...................28 Глава 3. Философские взгляды Э.В. Ильенкова ......................69 Глава 4. Философия М. М. Бахтина……………………………83 Глава 5. Историко-философская концепция А. Ф. Лосева...105 Глава 6. Философско-социологическая концепция А. А. Зиновьева……………………………………………………………116 Глава 7. Философские взгляды В. В. Налимова…………….139 Заключение……………………………………………………….151
Введение История мировой философии, будучи одним из важнейших элементов духовной культуры человечества, содержит в себе не только огромный мыслительный (логический) потенциал, но также и нравственный опыт многих поколений. Она не довольствуется лишь понятийным постижением мира, она еще и реализует эстетическое отношение к нему. В этой своей ипостаси философия выступает как особое мироощущение, постижение всеобщего, универсального, целостного в чувствах и эмоциях. Обладая высокой смысловой емкостью, философское знание зачастую представляется весьма далеким от насущных практических задач людей. Однако на самом деле это не так. В силу универсального характера философских идей их реализация захватывает все и вся. В этом смысле изучение истории философии оказывается очень эффективным средством экономии времени, которая давно уже стала для человека необходимостью. Современный человек не может себе позволить изучать все подряд, заниматься всем подряд. Его целесообразный поиск направлен на выбор наиболее информационно- и смыслоемкого значения. Достигая миропонимания, человек обобщает свои знания, придает им компактную форму, которая была бы доступна его ограниченному по своим возможностям сознанию. Философские идеи являются самыми смыслоемкими, поскольку через них выражаются и основные определения бытия, и знания, и отношение к миру, и отношение к обществу. В двадцатом веке существенной особенностью мировой философии становится широкое разнообразие направлений, течений, школ, их взаимодополняющее существование. Вместе с тем происходит дальнейшая специализация философской мысли, изменение самих ее оснований. Под влиянием социальных, политических и духовных коллизий эпохи новейшая философия пытается преодолеть крайности и односторонности. На духовную жизнь двадцатого века заметное воздействие оказали социальные катаклизмы (войны, революции, массовые миграции и т. п.), а также осознание углубляющегося системного кризиса цивилизации. История философии двадцатого века включает в себя и философию советской эпохи. Хотя встречаются утверждения о том, что в Советском Союзе философии не было, а была только идеология в виде догматизированной марксистской традиции. На самом деле, конечно, все было сложнее и драматичней. «Философский пароход», отчаливший от набережной Петрограда в 1922 г., ни в коем случае не положил конец существованию философии в России, хотя вынужденная эмиграция цвета российской духовной культуры была невосполнима. Однако философская мысль должна была выживать в тех суровых обстоятельствах. В 20-е гг., пока идеологический на
жим не был таким жестким, оставалась возможность для споров и дискуссий. Вектор здесь задает работа В.И. Ленина «О значении воинствующего материализма», вышедшая в марте 1922 года. Эта статья призывает разоблачать всех идеалистов, крепить союз с представителями передового естествознания и систематически изучать гегелевскую диалектику с материалистических позиций. Теперь на многие годы советская философия могла работать только в диалектико-материалистической парадигме, всякое отклонение от которой считалось ересью (со всеми вытекающими последствиями). Но внутри этой системы представлений допустимы расхождения, а, следовательно — и дискуссии. Такие дискуссии разворачиваются вокруг понятий экономического базиса, азиатского способа производства, соотношения биологического и социального в жизни человека и общества. В это время активно работают известные ученые и мыслители: А. А. Богданов (Малиновский), создавший организационную науку «тектологию», которая во многом предвосхитила основные идеи современной теории систем; М. М. Бахтин, один из основателей социолингвистики; А. Ф. Лосев — признанный знаток античности; Л. С. Выготский, создавший культурно-историческую теорию развития психики; Г. Г. Шпет и др. С 1930 г. наступает период идеологического и политического ожесточения режима и прямых репрессий против всяких попыток самостоятельного мышления. Но даже в это время создаются серьезные философские труды: «Формы времени и хронотопа в романе», «Ф. Рабле в истории реализма» М. М. Бахтина, «Основные проблемы социологии мышления» К. Р. Мегрелидзе; работает над темой ноосферы В. И. Вернадский, складываются философские идеи С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. Правда, все это становится достоянием читающей публики только через несколько десятилетий. После смерти Сталина постепенно ослабевает идеологический пресс и оживляется философская мысль. Вначале обнаруживается, что кроме марксизма-ленинизма в его сталинском проявлении есть еще и сам Маркс, который оставался неизвестным. Новое свободное чтение классиков дает толчок развитию диалектической логики. Диалектические школы складываются в Москве (Э. В. Ильенков, Г. С. Батищев, В. С. Библер), в Казахстане (Ж. М. Абдильдин), в Азербайджане (З. М. Оруджев), в Ростове-наДону (А. М. Минасян), на Украине (В. А. Босенко). Позднее формируется отечественная методология науки (В. С. Швырёв, Е. А. Мамчур, В. В. Налимов, Е. Я. Режабек, В. С. Степин, А. А. Зиновьев и др.). В 70-е гг. активно обсуждаются проблемы гносеологии и теории сознания (П. В. Копнин, В. А. Лекторский, А. Г. Спиркин, А. М. Коршунов, М. К. Мамардашвили). Через рубрику «Критика современной западной философии» (а без критики нельзя было писать) происходило все-таки знакомство советского читателя с трудами и идеями западных коллег.
Проблемы культуры, деятельности, человека становятся предметом многочисленных исследований и дискуссий (Э. С. Маркарян, В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, В. М. Межуев, Л. Н. Коган, Н. С. Злобин, А. Я. Гуревич). Причем философская культурология не замыкалась на дискуссиях по поводу характера культуры. Так, московско-тартуской семиотической школой развивался свой особый подход, при котором культура выступает как язык. Возглавлял эту школу неординарный исследователь Ю. М. Лотман. В Ростове-на-Дону вел оригинальные культурологические исследования М. К. Петров. Следует сказать и о тех, кто в условиях существенных ограничений пытался осмыслить социальную жизнь, пытался дать новые интерпретации марксистских положений, дабы сделать схему как можно более гибкой, позволяющей охватывать те явления, о которых не задумывались (или еще не могли задумываться) классики марксизма (В. Ж. Келле, Ю. К. Плетников, В. С. Барулин, А. К. Уледов, В. М. Межуев, Ю. Н. Давыдов, Г. Е. Зборовский). Философско-богословские изыскания не прекращались и в рамках русской православной церкви, хотя их результаты стали доступными (также, впрочем, как и труды православных мыслителей русского зарубежья) только в 90-е гг. Авторы предлагаемого вниманию читателя учебного пособия не ставили перед собой задачу скрупулезно охватить все нюансы философской жизни советского периода. Скорее, это попытка несколькими широкими мазками дать представление о картине в целом. Иначе говоря, обзору (вынужденно фрагментарному и неполному) мы предпочли более или менее обстоятельный анализ лишь некоторых концепций, свидетельствующих о широте диапазона философских исследований эпохи.
Глава 1 «Русский космизм» в XX веке В России с середины XIX-го века зреет уникальное направление философской мысли, широко развернувшееся в XX-м веке в русский космизм. Среди его представителей оказываются такие философы и учёные, как Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, В. Н. Муравьёв и др. Это направление было тесно связано с наследием русской православной философии (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев). Философскими основаниями русского космизма выступают концепции «всеединства и иерархической структуры бытия», «цельного знания» и «цельного мировоззрения». Мир в этих концепциях рассматривается не только в его наличной данности, но и с точки зрения долженствующего быть, с точки зрения его развития через человека и отношения к Творцу как цели. Соответственно, в русском космизме выделяют различные уровни постижения целокупной (духовной и чувственной) реальности: «теокосмизм», «софиокосмизм», «иерархокосмизм», «астрокосмизм», «антропокосмизм», «социокосмизм», «биокосмизм». Для каждого из этих «космизмов» характерна ориентация на свои собственные бытийные основания, соответствующий гносеологический принцип и целеполагающий идеал, которые лишь в совокупности образуют цельное бытие, цельное знание и цельное творчество. Но определяющей генетической чертой всего этого течения мысли является идея активной эволюции, т. е. необходимости нового сознательного этапа развития мира, когда человечество направляет его лишь в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство. Человек для активно-эволюционных мыслителей — существо, находящееся в процессе роста, далеко ещё не совершенное, но существо сознательно-творческое, призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу. Причём им удалось соединить заботу о большом целом — Земле, биосфере, космосе с глубочайшими запросами высшей ценности — конкретного человека. Недаром здесь такое важное место занимают проблемы, связанные с преодолением болезни и смерти и достижением бессмертия. Пожалуй, самой характерной чертой этой замечательной плеяды мыслителей и учёных является гуманизм, но гуманизм не абстрактный и мечтательный, а основанный на глубоком знании, вытекающий из задач и целей самой природной, космической эволюции. В советский период нашей истории по известным обстоятельствам религиозно-философский космизм довольно быстро сходит на нет, а развитие получает космизм естественно-научный. Хотя сам термин «космизм» распространяется в отечественной литературе только в 80-х гг. ХХ в. Это
му способствовали успехи в освоении космоса и рост интереса к общеметодологическим трудам основателя космонавтики — Э. К. Циолковского и его сторонников. В такой ситуации космизм трактуется, во-первых, как научное мироотношение и мировоззрение (как принцип культуры в широком плане) и, во-вторых, как общий метод познания, как принцип рассмотрения всего происходящего на Земле в тесном единстве с космическими процессами. С подобной точки зрения, Земля не только представляет собой космическое тело, подчиняющееся в своём движении в мировом пространстве законам космоса, но и обязана своей наполненной жизнью оболочкой благоприятному сочетанию общеприродных (земных и космических) факторов. Сама человеческая деятельность в этом свете приобретает размеры общепланетарные и земные. Наиболее заметный вклад в «космистское» мировидение в 20-е — 40-е гг. ХХ века вносят такие учёные-мыслители, как В. Н. Муравьёв, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский. Валерьян Николаевич Муравьёв (1885—1932) — дипломат, математик и философ, ученик и последователь Николая Фёдорова — революцию 17—го года воспринял как национальную трагедию. Он является одним из авторов известного сборника статей «Из глубины». В 1920 г. был приговорён к расстрелу, но по личному ходатайству Троцкого приговор был отменён. После освобождения в 1922 г. и до нового ареста в 1929 г. Муравьёв служил в ряде советских учреждений, в том числе учёным секретарём Центрального института труда, где широко пропагандировал «фёдоровское» понимание труда как основного средства в борьбе против слепых, разрушительных сил природы, в деле преображения мира и человека. Однако у него нравственно-религиозный пафос учения Фёдорова сменился верой в технический прогресс, в непогрешимость и абсолютность человеческого разума. Автор многих научных трудов, он смог опубликовать лишь работу «Овладение временем как основная задача организации труда» (М., 1924). Но идеи, которые он здесь развивает, позволяют с полным правом отнести его к мыслителям-космистам. Свой подход к вечной философской проблеме времени Муравьёв обосновывает, в частности, математической теорией множеств Георга Кантора. Всё в мире есть та или иная совокупность множественностей, каждая из которых — тоже своя множественность элементов. Время для нас по существу лишь показатель меняющегося положения этих множеств, показатель движения, изменения, смены вещей. Время считается необратимым, но если научиться возобновлять ту комбинацию элементов вещи, которая была до её изменения или исчезновения (а это изменение и зафиксировано для нас как определённое «время»), то, «воскресив» вещь, мы тем самым сумеем преодолеть необратимость времени, сумеем управлять им.
«Следует указать, — пишет В.Н. Муравьёв в своей неопубликованной при жизни статье «Всеобщая производительная математика», — для завершения картины на ещё одну из задач науки, представляющую как бы синтез всех других видов и способов овладения природой. Это задача овладения всеми вообще процессами движения и изменения путём завоевания их общего корня — времени. Преодоление времени не является теоретическим допущением, вытекающим из современных физических и математических теорий. Победа над временем и овладение им возможны на практике и в результате сознательной деятельности людей. Можно пойти далее и утверждать, что уже сейчас в ряде областей мы имеем частичную реальную власть над временем и постоянно её осуществляем, несмотря на то, что мы не сознаём такого значения наших действий. В самом деле, если вдуматься, мы поймём, что мы имеем такой пример овладения временем в каждом, свободно и сознательно произведённом человеческом опыте. Каждый день, в ограниченных областях, мы изменяем время и осуществляем его обращение» [10, с. 206]. Да и вся человеческая культура, по его мнению, оказывается постоянным «воскрешением» вещей и процессов. Культура как непрерывная, из поколения в поколение передача определённых «формул» и рецептов, по которым люди способны возобновлять вещи, прежде всего, деятельность времяобразующая. Но её время особое: «внутреннее», «организованное, сознательно творимое», подвластное в известных пределах человеку. Оно противостоит времени «внешнему», закону роковой неизбежности разрушения и смерти. Речь у Муравьёва, по существу, идёт о том, чтобы первое «внутреннее», культурное время максимально расширить, вывести его из пределов символически-художественной или производственной деятельности, начав овладевать реальным, биологическим временем — от омолаживания человеческого организма до восстановления бывших «комбинаций» ушедших в смерть сознательных существ, т. е. их воскрешения. Культура также делится им на два типа — символическую и реальную. В первую включаются все искусства, которые мнимо «воскрешают» исчезнувшее, останавливают время в узких пределах идеально существующей эстетической вещи, а также теоретические науки, знание в целом. Во вторую — те виды деятельности, которые не символически, а реально изменяют мир (генетика, политика, этика и производство). Хотя ни символическая, ни реальная культура по-настоящему ещё не овладевают временем жизни, работают вразброд, стихийно. Настоящим действием для Муравьёва является фёдоровское «общее дело» как регуляция разрушительных стихий, превращение Земли в «послушный космический корабль». Путь к овладению временем Муравьёв видит в «организации множественности через коллективное дело». У Федорова в субъекте «общего де
ла» в пределе должны быть все, а в объекте — всё. Муравьёв даёт следующее обоснование такой необходимости: каждый элемент любого множества сопряжён с совокупностью других множеств и, в конечном счете, со всем универсумом. Это и предопределяет для успеха воскресительного, времяпреодолевающего действия его космический характер. Однако свершиться это действие не может сразу всеохватно. Отсюда идея постепенного, последовательного расширения «островков» власти человека над временем. К космосу и бессмертию личность растёт через иерархию всё более широких множеств или коллективов, стремящихся в идеале к соборному всечеловеческому единству. В итоге Муравьёв приходит к выводу, что человеческий разум призван стать основным орудием дальнейшего восхождения бытия на всё более духовную ступень, когда стихийно текущее время сменится управляемым, выйдет в вечность или вневременность. Интересно, что сознание воздействует на мир не столько механически или физически, сколько химически, наподобие фермента или энзима: достаточно дать некий каталитический импульс преобразованию, и далее реакция «преобразования» идёт уже в самом объекте или системе их силами и энергиями. Побеждающее время человечество становится хозяином не только собственной жизни, но и природы и космоса, устанавливая такой тип нового братского управления собой и миром, который Муравьёв называет «космократией». Победу над смертью в конце концов одержит «анастатика» — искусство воскрешения мёртвых. В результате на смену земной истории придёт история солнечная, которая впоследствии в силу развития технического прогресса и роста мощи объединённого человечества сменится историй космоса. Другой последователь Н. Ф. Фёдорова — Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935) — широко известен как изобретатель ракеты (ракетодинамики) и основатель космонавтики. Гораздо менее известны его идеи из области «космической или естественной философии». Многие из его философских брошюр, вышедших в Калуге в 20—30-е гг., не переиздавались. Занимаясь активно-творческим самообразованием в Чертковской и Румянцевской общедоступных московских библиотеках, талантливый юноша близко сходится с Николаем Фёдоровым, который по сути дела заменил ему университетских профессоров и приобщил к традиции русского космизма. В 1879 г. Циолковский сдаёт экстерном экзамен на звание учителя арифметики и геометрии с правом преподавания в уездных училищах и получает место в Боровске. Здесь оп пробыл 12 лет, установив тот стиль жизни и работы, который продолжил и в Калуге, куда его перевели в 1892 г. Неприхотливое и внешне однообразное существование его складывалось из преподавания, материальных забот о большой семье, но за этим стояла глу