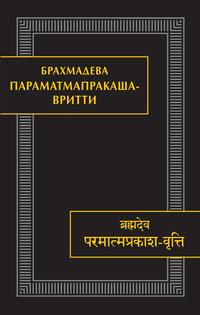Параматмапракаша-вритти
Покупка
Новинка
Тематика:
Средневековая философия (V в. - 1640 г.)
Издательство:
Наука
Автор:
Брахмадева
Вступ. ст., перевод:
Железнова Наталья Анатольевна
Ред. коллегия:
Куделин Александр Борисович
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 393
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-02-040606-3
Артикул: 858266.01.99
«Параматмапракаша-вритти» (санскр. «Комментарий к „Сиянию высшего атмана") — первый перевод на европейский язык единственного санскритского комментария Брахмадевы (XIV в.) к сочинению Йогинду (VI в.) «Парамаппапаясу» (апабхр. «Сияние высшего атмана»), сыгравшему ключевую роль в становлении джайнского мистицизма. Брахмадева, разъясняя созданные на языке апабхрамша двустишия-дохаки Йогинду, показывает, что
обыденное отождествление своего Я, духовной сущности — атмана с телом, различными формами материи (внешний атман) и даже душевными состояниями (внутренний атман) неверно. Истинный, высший атман являет
себя как чистое сияние самосознания. Брахмадева, cледуя за Йогинду, утверждает, что подлинным Брахманом, Шивой и любым другим божеством, которому поклоняются представители иных религиозных традиций, выступает только высший атман, как он описывается джайнами.
Перевод сопровождается комментариями, вступительной статьей, библиографией, указателями.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 47.03.01: Философия
- ВО - Магистратура
- 47.04.01: Философия
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ ÂÎÑÒÎÊÀ CLXV Ñåðèÿ îñíîâàíà â 1965 ãîäó Íàóêà — Âîñòî÷íàÿ ëèòåðàòóðà Ïîëíûé êàòàëîã ñåðèè: https://naukabooks.ru/vostlit/catalog/
Ìîñêâà 2024 ÁÐÀÕÌÀÄÅÂÀ ÏÀÐÀÌÀÒÌÀÏÐÀÊÀØÀÂÐÈÒÒÈ Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ, ïåðåâîä ñ ñàíñêðèòà è àïàáõðàìøè è ïðèëîæåíèÿ Í.À.Æåëåçíîâîé
УДК 1(091)
ББК 87.3(5Инд)
Б87
Рекомендовано к изданию
Ученым советом Института востоковедения РАН
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ ВОСТОКА»
А.Б.Куделин (председатель), И.Ф.Попова (зам. председателя),
Н.С.Яхонтова (секретарь), В.М.Алпатов, С.М.Аникеева,
Ю.А.Иоаннесян, В.С.Мясников, М.Б.Пиотровский,
С.М.Прозоров, А.Ф.Троцевич, А.Д.Цендина, О.М.Чунакова
Ответственный редактор
д-р филол. наук В.В.Вертоградова
Рецензенты
д-р филос. наук Н.А.Канаева
д-р филос. наук В.К.Шохин
Брахмадева
Параматмапракаша-вритти / вступ. статья, пер. с санскрита и
апабхрамши и приложения Н.А. Железновой; Ин-т востоковедения
РАН. — М.: Наука — Вост. лит., 2024. — 391 с. — (Памятники письменности Востока. CLXV / редкол.: А.Б. Куделин (пред.) и др.). —
ISBN 978-5-02-040606-3
«Параматмапракаша-вритти» (санскр. «Комментарий к „Сиянию высшего
атмана“) — первый перевод на европейский язык единственного санскритского комментария Брахмадевы (XIV в.) к сочинению Йогинду (VI в.) «Парамаппапаясу» (апабхр. «Сияние высшего атмана»), сыгравшему ключевую
роль в становлении джайнского мистицизма. Брахмадева, разъясняя созданные на языке апабхрамша двустишия-дохаки Йогинду, показывает, что
обыденное отождествление своего Я, духовной сущности — атмана с телом,
различными формами материи (внешний атман) и даже душевными состояниями (внутренний атман) неверно. Истинный, высший атман являет
себя как чистое сияние самосознания. Брахмадева, cледуя за Йогинду, утверждает, что подлинным Брахманом, Шивой и любым другим божеством,
которому поклоняются представители иных религиозных традиций, выступает только высший атман, как он описывается джайнами.
Перевод сопровождается комментариями, вступительной статьей, библиографией, указателями.
ISBN 978-5-02-040606-3
Железнова Н.А., 2024
ФГБУН ИВ РАН, 2024
ФГБУ «Издательство «Наука», 2024
СОДЕРЖАНИЕ Введение (Н.А. Железнова) ............................................................................... 6 1. Мистическая традиция джайнизма и Йогинду: к вопросу о дефиниции ................................................................................. 10 2. Язык Пп и проблема возникновения пракритов ...................... 24 3. Брахмадева и его комментарий .......................................................... 34 4. Учение о трех атманах в Пп Йогинду и Ппв Брахмадевы ..... 41 ПАРАМАТМАПРАКАША-ВРИТТИ Перевод ........................................................................................................................ 55 Первая большая адхикара ............................................................................ 57 Вторая большая адхикара ........................................................................... 161 Комментарии ........................................................................................................... 345 Приложения Библиография .................................................................................................... 371 Указатель терминов ....................................................................................... 379 Указатель имен .................................................................................................. 382 Указатель сочинений ..................................................................................... 386 Summary ........................................................................................................................ 389
Введение
6
ВВЕДЕНИЕ
Мистические традиции Востока представляют неугасающий
интерес как для специалистов — востоковедов, историков религии, религиоведов, — так и для более широкой публики. За последние 100 лет опубликованы сотни переводов мистических
и «околомистических» текстов, написаны тысячи книг и статей,
посвященных различным вопросам и проблемам изучения и
осмысления переживаний «измененных состояний сознания».
Однако по настоящее время исследователи так и не пришли
к единому мнению относительно того, как понимать сам феномен
«мистического» и какими методами его следует изучать1. Противостояние различных подходов к интерпретации мистического
вылилось, по меткой характеристике американских исследователей Дж. Андерсен и Р. Формана, в «методологическую войну» [Andersen, Forman 2000: 8], длящуюся в каком-то смысле до сих пор,
приняв форму ожесточенного противостояния двух крупных религиоведческих лагерей, один из которых отстаивает позицию
эссенциализма, а второй придерживается конструктивизма.
Эссенциалистский подход предполагает универсальность мистического опыта вне зависимости от конфессии. Представители
данной позиции (среди наиболее известных и авторитетных —
Уильям Джеймс [Джеймс 1993] и находившаяся под влиянием его
идей Эвелин Андерхилл [Андерхилл 2016], сторонник традиционализма Рене Генон [Генон 2012] и исследователь мифологии
Джозеф Кембелл [Кембелл 2017]) опираются на постулат о существовании общего для всех мистиков внутреннего опыта переживания трансцендентного, не обусловленного и не определяемого
по своей сущности никакими культурными, религиозными или
даже историческими составляющими. Мистики имеют непосредственный доступ к этой трансцендентной реальности. Природа
1 О различных подходах к определению мистицизма см. содержательную
статью Т.В. Малевич [Малевич 2013: 26–61], на которую в значительной степени опираются дальнейшие рассуждения.
Введение 7 подобного рода переживаний у всех едина, прослеживаются общие черты средств и способов трансформации сознания, равно как обнаруживается и значительное сходство в ключевых учениях мистиков различных традиций, эпох и цивилизаций. Поэтому очевидно, что мистики, как поэтично выразился в связи с этим У. Джеймс, «не имеют ни дня рождения, ни родины» [Джеймс 1993: 327]. Дальнейшее развитие эссенциалистской позиции направлялось вектором различения опыта, обращенного вовне, и опыта, обращенного вовнутрь, или, в терминологии влиятельного немецкого религиоведа и теолога Рудольфа Отто, «пути интроспекции», на котором мистик приобщается к Реальности через самопознание, и «пути объединяющего ви́ дения», когда мистик видит части тварного мира, трансформированные схватыванием его единой сущности, или же сосредоточивается на Едином как на источнике и сущности всякой множественности свойств чувственно воспринимаемого мира, либо отождествляется с ним как с превосходящим всё сущее, включая и упомянутую сущность2. Методологически сходное разграничение проводили и У. Стейс, Н. Смарт, Р. Худ, У. Уэйрайт и т.д.3. Эссенциализму противостоит конструктивизм (или, иначе, контекстуализм). Представители этого второго лагеря настаивают на «сконструированности», абстрактности самой категории «мистического» и невозможности изучения мистицизма вне его конкретных проявлений («таухид», «гнозис», «опыт Шивы» и т.п.), сущностно опосредованных своими языковыми формами. Согласно взглядам конструктивистов/контекстуалистов, нельзя в принципе говорить о мистицизме или мистическом переживании безотносительно к религиозной системе, как это резюмирует наиболее известный критик эссенциализма, историк еврейской мистики Гершом Шолем: «Существует не мистика вообще, а лишь определенная форма мистики — христианская, мусульманская, еврейская мистика и т.д.» [Шолем 2004: 40]. Поскольку любой наш опыт опосредован языком и культурой, то и никакого чистого, свободного от понятийно-интерпретационной дея 2 Подробнее анализ взглядов Р. Отто на мистицизм представлен в статье Майкла Стобера «Компаративные исследования мистицизма» [Стобер 2017: 46– 87]. 3 Взгляды У. Стейса рассмотрены более подробно Т. Малевич [Малевич 2013: 28–32].
Введение 8 тельности сознания, мистического переживания быть не может. При таком понимании (особенно в его радикальной версии) мистического опыта вопрос об онтологическом статусе переживаемой реальности как минимум переводится в плоскость эпистемологии и социолингвистики, а как максимум — просто снимается с повестки дня и выносится за скобки как нерелевантный. Сходные взгляды в той или иной мере отстаивали Брюс Гарсайд, историк религий Карл Келлер и др. Наиболее же значительным и влиятельным в современной религиоведческой науке представителем конструктивизма является Стивен Кац, чья бурная полемика с «эссенциалистом» нового поколения Робертом Форманом в 1990-е годы получила с легкой руки видного американского религиоведа Энн Тэйвз эпохальное название — «дискуссия Каца–Формана» [Тэйвз 2012]. Бурные теоретические баталии между представителями обеих методологических платформ привели к появлению компромиссных вариантов в виде теорий «религиозного плюрализма» Дж. Хика и «мистического плюрализма» Р. Стадстилла [Малевич 2013: 46–61], ознаменовав своеобразное перемирие в этой многолетней «методологической войне», что позволило историкам религий и религиоведам снова обратиться к изучению мистицизма, оперируя понятиями «мистика» и «мистический опыт». На нынешнем уровне наших знаний о том, что собой представляет сознание и каковы механизмы его функционирования, в силу сложности вопросов относительно понимания мистического вряд ли возможно решить проблему эпистемологического статуса мистического опыта. Да и завершения дебатов между религиоведами и исследователями мистицизма пока не предвидится, не говоря уже о каком-то даже минимальном консенсусе по этой проблеме. Тем не менее можно и нужно попытаться понять, как данное явление описывается внутри той или иной религиозной традиции. Иными словами, оставив в стороне вопрос «что?», постараться ответить на вопрос «как?». Индийская мистика занимает особое место, поскольку она попала в поле зрения исследователей практически сразу, как только европейцы ознакомились с упанишадами, и с тех пор привлекает внимание людей самого широкого круга — от профессиональных индологов, буддологов до разного рода «практикантов», стремящихся приобщиться к восточной мудрости.
Введение
9
Однако, несмотря на массовое увлечение медитативными техниками, йогой и духовными практиками среди разновозрастных
и разнонаправленных их почитателей, индийские философскорелигиозные традиции по-прежнему представляют собой необъятное поле для изучения, поскольку большое количество
текстов, имеющих непосредственное отношение к мистицизму,
остаются непереведенными и неизученными.
В этом смысле джайнский вклад в формирование общеиндийской мистической традиции пока не обозначен и не определен — и вследствие слабой изученности джайнских письменных
источников, и по причине значительно меньшего знакомства
с джайнизмом в целом. Показательно и отсутствие главы (или
хотя бы небольшого параграфа), посвященной джайнскому мистицизму, в недавно изданной большой «Энциклопедии джайнизма» [Encyclopedia 2020], что свидетельствует о серьезной исследовательской лакуне в предметной области изучения джайнизма. Место мистицизма в учении последователей тиртханкаров еще предстоит оценить, хотя некоторые усилия в этом
направлении уже предприняты и индийскими учеными, и западными. Так, в частности, К.Ч. Согани в сборнике своих статей
“Jaina Mysticism and Other Essays”4 [Sogani 2002] смело оперирует
данным термином применительно к традиции тиртханкаров,
однако понимает его довольно своеобразно, включая в его толкование чуть ли не всю джайнскую доктрину. С одной стороны,
индийский ученый полагает, что западному понятию «мистицизм» соответствуют множество джайнских концептов, среди
которых он приводит следующие: śuddhopayoga («чистая направленность сознания»)5, arhat (архат / «достойный [освобождения]»), siddha (сиддха / «достигший [освобождения]»), paṇḍitapaṇḍita maraṇa («очень благочестивая смерть»), paramātma («высший атман»), svasamaya («своя самость» / «собственное учение»),
parādṛṣṭi («превосходящее ви́ дение»), sāmarthya-yoga («самонацеленная йога»), ahiṃsā («не-насилие»), ātmasamāhita («сосредоточение на атмане»), sambodhi («пробуждение»/«просветление»),
samatva («самотождественность») и т.д. [Sogani 2002: 1]6. С другой
4 Сходные идеи присутствуют также в его работе, посвященной этике джайнизма. См. [Sogani 2001].
5 Перевод санскритских терминов в скобках мой.
6 Такой же список слов приводит и другой индийский ученый — М.Л. Мехта
[Mehta 2001].
Введение
10
стороны, характеризуя джайнский мистицизм, он включает
в него едва ли не всю джайнскую доктрину: «Мистицизм состоит
в обретении состояния архата или сиддхи посредством Samyagdarśana („духовного пробуждения“), Samyagjñāna („истинного
знания“) и Samyakcāritra („этико-духовного поведения“) после
уничтожения Mithyādarśana („духовного заблуждения“), Mithyājñāna („ложного знания“) и Mithyācāritra („превратного поведения“)» [Ibid.]. Таким образом, в его версии трактовки феномена
«мистицизм в джайнизме» становится тождественным понятию
«джайнизм» в целом.
Среди европейских ученых, вероятно, первой о джайнском
мистицизме написала французская исследовательница Колетт
Кайя [Caillat 2003]7, однако дело свелось лишь к пересказу идей,
изложенных индийским ученым А.Н. Упадхье в его издании сочинений дигамбарского учителя Йогинду [Upadhye 2000], без
какого бы то ни было обоснования использования данного термина применительно к джайнизму. Статья К. Кайя посвящена
доктринальным особенностям главного текста Йогинду (о нем
см. ниже) и не обсуждает проблему джайнского мистицизма как
самостоятельного явления. Некоторая попытка рассмотреть феномен мистицизма в джайнизме в контексте Corpus Cundacundae
была предпринята в свое время автором данного Введения [Железнова 2012а; 2012б: 197–206]. Но в целом и по сей день изложение (как правило, inter alia и сжато) специфики джайнского
мистицизма ограничивается отсылками к текстам трех дигамбарских авторов — Кундакунды, Пуджьяпады и Йогинду, как это
сделал П. Дандас в своей работе [Dundas 2002: 107–110].
1. Мистическая традиция джайнизма и Йогинду:
к вопросу о дефиниции
Словом, охватывающим значения «мистическое» и «мистицизм» в джайнизме, является санскритское понятие adhyātma —
7 Сама К. Кайя в примечании 5 статьи отсылает к работе У.Дж. Джонсона
[Johnson 1995], в которой, по ее мнению, наличествуют более ранние формы
джайнского мистицизма. Однако, поскольку она не ссылается на конкретные
страницы, сложно предположить, что же К. Кайя имеет в виду. В работе английского ученого нет ни самого слова «мистицизм», ни его возможных эквивалентов.