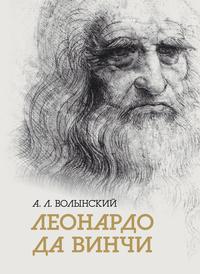Собрание сочинений. Леонардо да Винчи
Покупка
Новинка
Тематика:
История мировой живописи
Издательство:
Наука
Автор:
Волынский Аким Львович
Сост. и подг. текста:
Котельников Владимир Алексеевич
Год издания: 2025
Кол-во страниц: 640
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-02-040268-3
Артикул: 858264.01.99
В данном томе собрания сочинений русского мыслителя, литературного и балетного критика, искусствоведа Акима Львовича Волынского (1861/1863—1926) публикуется его фундаментальный труд «Леонардо да Винчи» (1897—1898). К концу 1890-х гг. Волынский уже подвел итоги своим «поискам за Леонардо да Винчи», которыми он занимался в музеях и библиотеках Италии, других стран Европы с 1896 г., печатая в «Северном вестнике» ряд статей на эту тему, и, дополнив, собрал их в отдельном издании. В этом цикле его трудов совершался глубокий пересмотр эпохи Ренессанса и наследия Леонардо, которого он, еще до появления «Воскресших богов» Д. С. Мережковского, впервые открыл в России не как музеефицированную классику, а как явление насквозь и неисцелимо кризисное.
Книга предназначена для искусствоведов, историков русской философской и эстетической мысли.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 47.03.01: Философия
- 50.03.01: Искусства и гуманитарные науки
- 50.03.03: История искусств
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Леонардо да Винчи
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
Москва ▪ Санкт-Петербург Наука 2025 А. Л. ВОЛЫНСКИЙ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Москва ▪ Санкт-Петербург Наука 2025 А. Л. ВОЛЫНСКИЙ ЛЕОНАРдО дА ВИНЧИ
УДК 7.033/.035.75.01(081)
ББК 85
В70
Ре ц е н з е н т ы:
О. В. Евдокимова, доктор филологических наук, профессор
кафедры русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена;
О. И. Розанова, кандидат искусствоведения, профессор АРБ
имени А. Я. Вагановой
Волынский А. Л. Собрание сочинений. Леонардо да Винчи / Сост.,
подгот. текста, вступ. ст., коммент., указ. В. А. Котельникова. — М.; СПб.:
Наука, 2025. — 623 с.
ISBN 978-5-02-040268-3
В данном томе собрания сочинений русского мыслителя, литературного и балетного критика, искусствоведа Акима Львовича Волынского
(1861/1863—1926) публикуется его фундаментальный труд «Леонардо да
Винчи» (1897—1898). К концу 1890-х гг. Волынский уже подвел итоги своим «поискам за Леонардо да Винчи», которыми он занимался в музеях и
библиотеках Италии, других стран Европы с 1896 г., печатая в «Северном вестнике» ряд статей на эту тему, и, дополнив, собрал их в отдельном
издании. В этом цикле его трудов совершался глубокий пересмотр эпохи
Ренессанса и наследия Леонардо, которого он, еще до появления «Воскресших богов» Д. С. Мережковского, впервые открыл в России не как музеефицированную классику, а как явление насквозь и неисцелимо кризисное.
Книга предназначена для искусствоведов, историков русской философской и эстетической мысли.
В оформлении использован
«Портрет литературного критика и искусствоведа А. Л. Волынского».
Ю. Анненков. 1921 г.
© Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 2025
© В. А. Котельников, составление, подготовка
текста, вступительная статья, комментарии,
указатели, 2025
© Редакционно-издательское оформление.
Издательство «Наука», 2025
ISBN 978-5-02-040268-3
ISBN 978-5-02-040287-4 (Собр. соч.)
Антропология Леонардо да Винчи в освещении А. Волынского Изучение наследия художника, его окружения и эпохи привело Волынского к мысли о духовной двойственности и автора «Джоконды», и итальянского Ренессанса в целом, что он проследил от Верроккио и Боттичелли до Леонардо. Для Волынского в 1890-е гг. была наглядно ясной связь твор-ческого акта с религиозностью личности, связь красоты ху-дожественной с богочеловеческой, с абсолютными истинами христианства. Это произошло именно тогда, когда он зримо обнаружил ее поврежденность у Леонардо, который «страдал глубокими внутренними болезнями, и самая ширина его мысли, схоластически запутанной и беспредельной, была не чем иным, как брожением сложных сил, которые не укладывались ни в какую форму и не имели в себе внутреннего простого центра. Религиозное чувство не давалось ему», и в рисунках его Мадонн, еще непокрытых красками, «отразилось то гнилостное разложение, на которое были обречены двойственные натуры бессильной эпохи ренессанса»*. На первом этапе своего религиозного пути Волынский настойчиво искал адекватные художественные воплощения «идеи Бога», видя в них проявление богочеловеческого процесса в культуре и в истории, форму исповедания христианских истин не менее верную, чем исповедание церковное. Интерес к Леонардо возник у Волынского на первом подъеме культурно-философской рефлексии модернизма в конце девятнадцатого века, когда подобный интерес обнаружил и Д. С. Мережковский, совершивший вместе с Волынским путешествие в Италию весной 1896 г. «в поисках за Леонардо». В отличие от Мережковского, которому было достаточно общего знакомства с творчеством Леонардо и биографическими материалами для * Волынский А. В поисках за Леонардо да Винчи // Северный вестник. 1897. № 12. С. 207.
беллетристической разработки темы, Волынский, тогда единственный в России энтузиаст, в течение нескольких лет изучал наследие Леонардо (и его окружения) в европейских архивах, музеях, библиотеках, частных коллекциях, результатом чего стали статьи в журнале «Северный вестник» (1897—1898), собранные в книгу, изданную в 1900 г. и переизданную с дополнениями в 1909 г.* Она сыграла, может быть, определяющую роль в восприятии русской культурой рубежа веков творчества Леонардо. Во всяком случае, на это указывает свидетельство Г. В. Иванова в «Петербургских зимах», где он передает разговор двух посетителей квартиры Вяч. Иванова: «...такие гении, как Леонардо да Винчи... ...Леонардо, Леонардо — что такое ваш Леонардо! Если бы Аким Волынский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил»**. Волынский, оказавшись в широком потоке возраставшего на Западе внимания к Ренессансу и к Леонардо да Винчи, сумел продуктивно (но и с достаточной критичностью) использовать появившиеся публикации и исследования Густаво Уциелли (Gustavo Uzielli), Шарля Равессон-Молльена (Charles Ravaisson-Mollien), Джироламо Д’Адда (Girolamo D’Adda), Габриэля Сеэля (Gabriel Séailles), Эдмондо Сольми (Edmondo Solmi), Ипполита Тэна (Hippolyte Taine), Уолтера Пэтера (Walter Pater), Эжена Мюнца (Eugène Müntz), Федора Сабашникова (в Европе он известен как Teodoro Sabachnikoff), Диего Сант-Амброджио (Diego Sant’Ambrogio), Луки Бельтрами (Luca Beltrami) и многих других. Все это, вместе с проницательной и тонкой аналитичностью взгляда, придавало основательность его разысканиям и убедительность многим его искусствоведческим суждениям. Очевидно, что наиболее пристально (и отчасти пристрастно) Волынский рассматривает Леонардо именно в антропологическом аспекте — начиная с его интимно-личных свойств, миропонимания до психосоматических сюжетов его творчества и естественнонаучных штудий в широком контексте итальянского Возрождения. Помимо собственно искусствоведческого интереса, был и ближайший, чрезвычайно сильный у Волынского тогда этико-** Волынский А. Л. Леонардо да Винчи. [Изд. 2-е]. Киев, 1909. Далее после цитаты из этого издания в скобках указывается его страница. ** Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 99.
философский мотив такой исследовательской фокусировки — его реакция на проповедуемую Ф. Ницше «neue Renaissance» с фигурой Übermensch, вставшего над всеми традиционными, «слишком человеческими» ценностями. Именно такими фигурами в восприятии многих современников Волынского рисовались «титаны Возрождения», в том числе и Леонардо да Винчи. В полемике с ницшеанской апелляцией к возрожденческому человекобожию Волынский проблематизирует антропологию Леонардо в двойном свете: религиозно-этической традиции христианства и этико-эстетической традиции античного гуманизма. Он показывает, что рационалистические эксперименты художника с формами и семантикой тела ведут к разрыву с обеими традициями: с канонизированной христианством теоморфностью человеческой природы — как внутренней, так и внешней — и с языческими (греческими) канонами физически и эстетически совершенного человека (τέλειος ἄνθρωπος). Первоначальные импульсы в таком направлении Леонардо получил, полагает Волынский, в «школе Верроккио — этого оригинальнейшего гения своего времени в живописи и скульптуре»; его школа «в лице Леонардо приобрела могучую силу для переработки общепринятых эстетических понятий, для разрушения всяких привычных устоев, даже наиболее человечных и внутренне необходимых. Лица осветились утонченной ин-теллигентной улыбкой, передающей демоническую дерзость новых художников». Создаваемые «на строго научных основаниях», «эти странные, болезненные рахитичные лица, с их дву-смысленными улыбками, с их недобрыми острыми взглядами, были окружены какой-то атмосферой разложения, заражали демоническими настроениями одних и приводили в негодование других» (с. 7). Если Верроккио (Verrocchio) создал общее направление в трансформации традиционных сюжетов и фигур искусства предшествующих эпох, то, находясь в сфере влияния этой школы, Леонардо тогда же испытывал воздействие и специфицирующих такое направление тенденций, обозначившихся в ту пору среди выдающихся художников Флоренции. Одной из таковых была, несомненно, готизирующая стилистика Сандро Боттичелли (Botticelli), в своей заостренной изысканности близкая к стилю поэтического кружка Лоренцо Медичи. Изображая персонажей античной мифологии, Боттичелли придавал гиперболизированную стройность изящно-чувственным обнаженным и полуобнаженным телам танцующих женщин, в которых у него
благодаря вертикальным акцентам проступали черты удлиненных фигур готической религиозной живописи. Такая освобождающая от авторитетных антропологических канонов игра с телесными формами, вероятно, зачаровала тогда юного Леонардо и властно увлекала его впоследствии, ведя ко все новым и новым синтезам телесных форм разного происхождения и содержания. У Боттичелли она завораживала его своей соблазнительной многозначностью и возможностью сочетания ранее несовместимых религиозно-культурных и соответствующих им эстетических традиций. Преимущественно по этой линии просматривается влияние Боттичелли на Леонардо, а преемственность по тематической линии, в частности евангельских персонажей и событий, неспецифична и второстепенна. Поэтому недостаточно для иллюстрации такого влияния указывать на картину Боттичелли «Мадонна с Младенцем, святым Иоанном и двумя ангелами» («Madonna con il Bambino, San Giovannio e due angeli», 1468), как это делается, например, в сводном труде «Leonardo: Arte e scienza»*. Боттичелли в целом был одним из важных факторов мировосприятия и творчества Леонардо, но именно поэтому сквозь призму культуры начала двадцатого столетия он виделся как явление нездоровое: «Теперь я часто не могу выносить его нервных ломаных линий, — говорит протагонист Волынского в его труде, — его неустойчивых человеческих фигур, всего этого болезненного кошмара психологических раздвоений и умственной нейтральности. Боттичелли ожил как раз теперь, среди разгрома омертвевших кумиров, в обществе, еще бессильном выбрать определенную идейную дорогу — ясную и вечную» (с. 90). Тогда же Леонардо испытал и влияние Пьетро Перуджино (Perugino), в чьей деятельности в духе тех же экспериментальных синтезов сочетался атеистический рационализм, материализм — и создание изображений иконного типа, образы Мадонн и святых**. ** Leonardo: Arte e scienza / A. Chastel, P. Galluzzi, C. Pedretti, D. Laurenza, M. Cianchi. Firenze; Milano, 2000. P. 14. ** Уже Вазари в жизнеописании Перуджино отмечал его безрелигиозность и скептицизм. Впоследствии биографы художника и историки искусства говорили об этих чертах его личности, сочетавшихся с утонченной живописной разработкой религиозных тем. См., в частности: Coquerel A. J. Des beaux-arts en Italie au point de vue religieux: Lettres écrites de Rome, Naples <...> et suivies d’un appendice sur l’iconographie de l’immaculée conception. Paris, 1857. P. 211; Broussole J. C. La jeunesse de Perugin et les origines de l’école ombrienne. Paris, 1901.
Антропология Леонардо, опирающаяся на его естественнонаучные изыскания и этические концепции (не составлявшие, впрочем, определенной доктрины), получала художественное выражение по нескольким линиям, что и прослеживает Волынский в своей книге, учитывая вышеназванные влияния. Одна из них, как трактует ее Волынский, отражает ту тенденцию в мироотношении и творчестве Леонардо, которую можно было бы назвать своего рода дизантропией. Она обнаруживается Волынским в ряде работ, включающих зарисовки (прежде всего голов, так называемые гротескные головы), вошедшие в Виндзорское, Оксфордское, Венецианское собрания (как, например, «Caricatura» («Безносый», ок. 1507), «Studio caricaturale di testa di uomo ricciuto» («Карикатурный этюд головы кудрявого человека», ок. 1515) и другие подобные), в «Битве при Ангиари» («Battaglia d’Anghiari», 1503—1504). Волынский тщательно рассматривает «огромную коллекцию винчианских уродов», воспроизведенную в издании Kарло Джузеппе Джерли (Gerli)*. В бледном профиле молодой девушки «с вздернутым носом, длинным, острым подбородком и тонкими растянутыми губами» он замечает «маленький выпуклый лоб, светлые глаза, глядящие с веселым, неопытным цинизмом, жидкие, словно обдерганные волосы, распущенные по спине, — это тип заурядной итальянской субретки, в ее первых, но безнадежных падениях» (с. 98—99). Рядом изображен «старик в чудовищно нелепой шапке, похожей на птичий хохол, с длинным хищным носом, как у коршуна, с выпятившейся нижней частью лица»; неподалеку «еще два уродливых лица, отвращенных друг от друга, — одно совсем стертое старушечье, другое — с горбатым, точно переломленным носом на одном уровне с огромной нижней губой». «Можно подумать, — говорит по поводу этих лиц Волынский, — что самая сила, их создавшая, таила в себе резкий диссонанс, разлагавший органическую работу художественного таланта». Он не находит ответа на вопросы: «Каково было настроение Леонардо да Винчи, когда он набрасывал этот отвратительный профиль? Было ли это минутным облегчением от собственных внутренних кошмаров, которые застилали его загадочную душу, или это злой, сухой смех над людьми при бездушно-скептическом взгляде на их природу?» (с. 99). * Gerli C. G. Disegni di Leonardo da Vinci, incise e pubblicati. Milano, 1784.