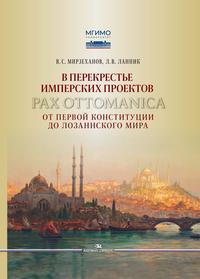В перекрестье имперских проектов. Pax Ottomanica от первой конституции до Лозаннского мира
Покупка
Новинка
Издательство:
Аспект Пресс
Год издания: 2025
Кол-во страниц: 464
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-7567-1345-9
Артикул: 856652.02.99
Поздний этап истории Османской империи (1878-1923) характеризовался максимальным воздействием великих держав и настойчивым поиском стратегии сохранения Порты. Помимо торгово-экономической экспансии и борьбы за имперскую периферию, в монографии уделяется внимание трансферу идеологий, военным, финансовым и образовательным миссиям, управлению миграционными потоками и социальными рисками. Особое место занимают события Первой мировой войны и трансформация постимперских пространств, впервые рассматриваемая как системное явление.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России В.С. Мирзеханов, Л.В. Ланник В ПЕРЕКРЕСТЬЕ ИМПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ Pax Ottomanica от первой конституции до Лозаннского мира Москва 2025
УДК 327 ББК 66.4 М63 Издание подготовлено в рамках Консорциума ИВИ РАН с МГИМО МИД РФ Р е ц е н з е н т ы : доктор исторических наук А.А. Улунян кандидат исторических наук П.В. Шлыков Мирзеханов В.С., Ланник Л.В. М63 В перекрестье имперских проектов. Pax Ottomanica от первой конституции до Лозаннского мира / В.С. Мирзеханов, Л.В. Ланник. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2025. — 464 с. ISBN 978-5-7567-1345-9 Поздний этап истории Османской империи (1878–1923) характеризовался максимальным воздействием великих держав и настойчивым поиском стратегии сохранения Порты. Помимо торгово-экономической экспансии и борьбы за имперскую периферию, в монографии уделяется внимание трансферу идеологий, военным, финансовым и образовательным миссиям, управлению миграционными потоками и социальными рисками. Особое место занимают события Первой мировой войны и трансформация постимперских пространств, впервые рассматриваемая как системное явление. УДК 327 ББК 66.4 ISBN 978-5-7567-1345-9 © Мирзеханов В.С., Ланник Л.В., 2025 © МГИМО МИД России, 2025 © ООО Издательство «Аспект Пресс», 2025 Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте и в интернет-магазине https://aspectpress.ru Программа стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030» Национальный проект «Наука и университеты»
Содержание В в е д е н и е . Имперское измерение трансформации Pax Ottomanica, 1878–1923 гг.: к постановке проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Г л а в а 1. Пределы ультраконсервативной стабилизации: Абдул-Хамид II и его эпоха в международном контексте, 1878—1908 гг. . . . . . . . . . 25 1.1. Геополитическая динамика Османской империи . . . . . . . . . . . . . 25 1.2. Испытание географией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.3. Инфраструктурные вызовы индустриальной эпохи. . . . . . . . . . . . 53 1.4. Империя в зеркале своего населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1.5. Вестники новой эры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1.6. Безальтернативность избранного средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.7. В обреченной борьбе с внешними импульсами дестабилизации в эпоху колониального передела . . . . . . . . . . . . 118 Г л а в а 2. Османская империя в воронке революции и войны: становление младотурецкого режима на международной арене, 1908–1914 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2.1. Младотурецкая революция и спектр вариантов ее развития в 1908–1911 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2.2. Внешнеполитическое горнило для младотурок . . . . . . . . . . . . . . 149 2.3. Укрепление младотурецкой диктатуры: мнимые парадоксы националистического курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2.4. Дрейф в сторону смены патрона: решающие месяцы внешнеполитической ориентации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 2.5. Накануне великого передела: геополитические перспективы Османской империи к лету 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Г л а в а 3. Игра ва-банк поневоле: Великая Порта как член коалиции Центральных держав, 1914–1918 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 3.1. Отчаянно недолгий нейтралитет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 3.2. Османская империя в слишком Великой (для нее) войне . . . . . 214 3.3. Коалиционная война в трансосманском измерении . . . . . . . . . . 232 3.4. Военная трансформация османского общества и государства . . 246 3.5. Навстречу необратимому: Pax Ottomanica в 1917–1918 гг.. . . . . . 259 3.6. Пантуранская попытка «пересобрать» империю: османская гегемония в Закавказье в 1918 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Г л а в а 4. В поисках новой геополитической идентичности: создание национального государства в условиях имперской катастрофы, 1918–1923 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 4.1. Трансфер власти в оформлении поражения . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 4.2. Генезис анатолийской трансформации империи. . . . . . . . . . . . . 342 4.3. Трансимперская история победы в войне за независимость . . . 354 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Введение ИМПЕРСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ PAX OTTOMANICA, 1878—1923 гг.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ Макросистема империй: бессилие традиционных дихотомий. Пути развития истории (пост)имперских пространств. Методологические проблемы истории международных отношений и транснациональной истории. Новейшие направления исследований и публикации. Политические проблемы развития регионалистики. Приоритеты изложения и проблема конвергенции историографии. Перспективы транснационального анализа и масштабы аналогий. Хронологические рамки исследования. Необходимые и неизбежные особенности изложения. Макросистема империй: бессилие традиционных дихотомий. Пути развития истории (пост)имперских пространств Размышляя о судьбах империй, в рассматриваемый период немыслимых вне сформированной ими макросистемы, часто ставят вопрос о влиянии на них демократических идей, новых политических институтов (парламенты, конституции, партии), степени вовлеченности подданных в политическую жизнь. Принципы включения и исключения в отношении политического участия населения, безусловно, могут служить важным критерием эволюции империй для периода рубежа XIX и ХХ вв. Однако не они предопределили тенденции кризиса и последующего распада империй. Колониальные империи обычно противопоставляются империям континентальным, а традиционные — модерным. При этом качества модерности, как правило, приписываются колониальным империям, а континентальные описываются как традиционные. В последнее время историки справедливо обратили внимание, что в своих колониальных владениях британцы сохраняли намного дольше, чем в метрополии, многие черты Старого порядка. Другие империи, причисляемые к модерным, также сохраняли много традиционных черт на своей периферии. При этом все континентальные империи с большим или меньшим успехом, раз
ВВЕДЕНИЕ. Имперское измерение трансформации Pax Ottomanica, 1878–1923 гг. ... ными путями шли по пути модернизации, да и были столь неоднородны, что линии «разлома» пролегали внутри держав, а не по их границам1. Поэтому представления об оппозиции модерных колониальных и традиционных континентальных империй нуждаются в корректировке и переосмыслении2. В конечном итоге не разделение властей и развитость демократических институтов, не либеральные политические принципы определяли устойчивость и стабильность имперской власти. Они обеспечивались как принуждением, в том числе насильственным, так и коллаборацией подчиненных, а также наднациональными идеологиями (панславизм, пангерманизм, панисламизм) и символами имперской государственности, а не только социальной и политической гомогенизацией и универсальностью гражданских прав3. Идея гражданства и специфического юридического оформления этого статуса с самого начала не была универсальной ни в метрополиях, ни в имперских центрах, ни тем более на периферии или в странах–объектах экспансии4. Она исключала не только колониальных подданных империй, но и большинство населения метрополии по критериям гендера, социального статуса и богатства. Так, в России после 1905 г. право на участие в выборах получило мужское население большинства периферийных регионов империи, хотя сами выборы были основаны на сословной, куриальной системе. В Великобритании с ее особенностями общественного развития исключение различных групп населения метрополии из политического процесса обсуждалось в прямой связи с национальной и расовой проблематикой. Взаимосвязанность и взаимозависимость колониальных и континентальных империй была достаточно весомой. Макросистема империй в течение длительного времени была внутренне стабильна потому, что, несмотря на частые войны между соседними империями, все они придерживались определенных конвенциональных ограничений в своем соперничестве. Как правило, они не стремились разрушить оппонента, во многом потому, что Романовы, Габсбурги и Гогенцоллерны ощущали обоюдную потребность5. Начало довольно длительного процесса разрушения тех ограничений, которых европейские империи придерживались в отношениях друг с другом после катастрофических Наполеоновских войн, было положено Крымской войной. Оконча1 Например, в образцовом исследовании о специфической имперской периферии Австро-Венгрии в Галиции демонстрируются не только контрасты развития, но и факт «ориенталистского» ее восприятия представителями собственно австрийских территорий как «полу-Азии» и чуть ли не «колонии»(!), а в годы Великой войны это же характеризовало и впечатления кайзеровских и даже иногда российских военных. См.: Kaps K. Ungleiche Entwicklung in Zentraleuropa: Galizien zwischen überregionaler Verfl echtung und imperialer Politik (1772–1914). Wien; Köln; Weimar, 2015. 2 Всемирная история: В 6 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 5: Мир в XIX веке: На пути к индустриальной цивилизации. М., 2019. С. 252; Мирзеханов В.С. XIX век в мировой истории (к выходу V тома Всемирной истории) // ННИ. 2015. № 4. С. 14. 3 Osterhammel J. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton; Oxf., 2014. 4 См. в том числе на позднеосманском материале: Extending citizenship, reconfi guring states / Ed. by M. Hanagan, C. Tilly. Lanham; Oxf., 1999. 5 Schroeder P.W. Austria, Great Britain and the Crimean War. The Destruction of the European Concert. Ithaca, 1972. P. 412–418.
Макросистема империй: бессилие традиционных дихотомий ... тельный демонтаж системы конвенциональных ограничений в отношениях между империями занял несколько десятилетий и со всей силой проявился в ходе Первой мировой войны. Эта война уже велась массовыми армиями, построенными на основе всеобщей воинской обязанности. Но это были имперские армии, в которых вопросы религиозной, этнической, расовой разнородности играли важную, а иногда и центральную роль. В ходе приготовлений к большой европейской войне и во время нее империи стали весьма активно, отбросив прежние ограничения, использовать этническую карту против своих противников. Сила национальных движений в этой макросистеме к концу войны во многом была обусловлена тем, что они получили поддержку соперничавших империй, которые теперь боролись друг с другом «на уничтожение»1. Сражающиеся стороны проводили мобилизацию окраинных национализмов в стане врага через оккупационную политику, через финансовую и информационную поддержку сепаратистских тенденций, через систематическую пропагандистскую работу в лагерях военнопленных, которая охватила миллионы человек. В условиях, когда все взрослые мужчины рассматривались как потенциальные солдаты, воюющие стороны трактовали этничность и конфессиональную принадлежность как ключевые параметры лояльности, прибегая к массовым депортациям, репрессиям и заключению во впервые появившиеся тогда в Европе концентрационные лагеря по этническому признаку2. В этой связи перед историографией возникает вопрос о переосмыслении роли межимперского соперничества, с одной стороны, и национальных движений — с другой, как факторов распада империй. Это позволяет по-новому взглянуть на жизненный потенциал империй и задуматься, был ли он исчерпан к началу Первой мировой войны. Именно Великая война вынудила империи воспользоваться без ограничений обоюдоострым мечом национализма и окончательно разрушила выполнявшую определенную стабилизирующую роль макросистему империй. Ведь в результате войны рухнули не только ослабленная, сжимавшаяся, потерявшая экономический суверенитет Османская империя, не только экспериментировавшая с этнокультурной автономией, сравнительно менее централизованная империя Габсбургов или экономически отстававшая от Запада, раздираемая внутренними политическими противоречиями, не успевшая консолидировать новые демократические институты и имперскую русскую нацию Российская империя. Рухнул и кайзеровский рейх, где имперская нация и демократические институты уже были в значительной степени консолидированы3, а экономическое развитие вывело страну 1 Всемирная история. Т. 5: Мир в XIX веке. С. 262; Schroeder P.W. Austria, Great Britain and the Crimean War. P. 418ff . 2 Всемирная история. Т. 5: Мир в XIX веке. С. 262. 3 Дискуссия о пределах демократического элемента в устройстве Кайзеррейха и его потенциале в развитии Веймарской республики на фоне претензий держав Антанты на исключительную роль в определении «истинной демократии» продолжается по меньшей мере со времен Парижской мирной конференции. См., напр.: Einigkeit und Recht, doch Freiheit? Das Deutsche Kaiserreich in der Demokratiegeschichte und Erinnerungskultur / Hrsg. von A. Braune, M. Dreyer, U. Lappenküper. Stuttgart, 2021; Müller T.B. “Siegeszug” der “Weltdemokratie”. James Bryce, Ernst Troeltsch und die transatlantische Diskussion
ВВЕДЕНИЕ. Имперское измерение трансформации Pax Ottomanica, 1878–1923 гг. ... в мировые индустриальные лидеры1. Получается, что вне зависимости от своих внутренних сильных сторон и слабостей все империи на востоке Европы не смогли пережить Первую мировую войну и крах взаимозависимой макросистемы континентальных и колониальных империй. В новейших исследованиях по истории империй ряд проблем, тем и понятий продолжают оставаться предметом широких дискуссий: империя–нация, центр– периферия, особенности взаимодействия «людей империи» и местных сообществ. Идеи доминирования, иерархии, центро-периферического членения уже давно стали концептуальной рамкой описания современного мироустройства2. И хотя в современных текстах употребляются нередко и другие демаркации — Запад и Восток, Север и Юг, в основе их лежит дихотомия центра и периферии. Соотнося эти два ареала, исследователи обычно делают акцент на их неравноправном положении, часто представляя истории «периферийных» народов как вечно и пассивно подчиненные внешним инициативам Центра. Как заметил Й. Галтунг, «взаимодействие между Центром и Периферией является вертикальным, а взаимодействие между Периферией и Периферией отсутствует»3. Показательно неизбежное появление образа вертикали сразу вслед за образом Центра, в этой конфигурации вертикальные властные отношения более значимы, чем горизонтальные4. Эта логика кажется внешне безупречной, но выдерживает ли она проверку при встрече с исторической реальностью? Очевидно, что отношения центров и периферий — не однонаправленное доминирование, а сложная циркуляция взаимных отношений, ориентаций, нормативной, ценностной природы, которые к тому же отнюдь не замкнуты в пределах одного общества5. Именно в этой перспективе динамического описания обменов между центрами и перифериями, их перемещений, возвышений и нисхождений заключена основная ценность центро-периферического подхода для историографии. Бинарная оппозиция «центр-периферия», конечно, должна восприниматься как упрощение многосложной социально-политической реальности. Методологические проблемы истории международных отношений и транснациональной истории Анализ бинарных концептов «империя–нация» и «центр–периферия» показывает, что стремление к понятийной четкости, моделированию истории иногда приводит к обратному результату. Попытки изучения истории империй на основе um die globale und soziale Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg // Große Erwartungen 1919 und die Neuordnung der Welt. S. 311–340. 1 Всемирная история. Т. 5: Мир в XIX веке. С. 263. 2 The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? / Ed. by A.G. Frank, B. Gills. L., 1994; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 3 Galtung J. A Structural Theory of Imperialism // Jouranal of Peace Research. 1971. Vol. 8. № 2. P. 89. 4 Motyl A. Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires. N.Y., 2001. P. 16. 5 Shils E. Center and Periphery: An Idea and its Career, 1935–1987 // Center: Ideas and Institutions / Ed. by L. Greenfeld, M. Martin. Chicago; L., 1988. P. 251.
Методологические проблемы истории международных отношений... строгих критериев оборачиваются совершенно произвольным их выбором и использованием не всегда удачных определений из арсенала гуманитарных наук. Прежде всего, нужно четко осознать, что не существует империй и наций, центров и периферий как вечных субстанций, а есть исторически разные феномены, часто с противоположными характеристиками, находящиеся в непрерывной динамике. Задача историка — не структурировать исторический процесс по умозрительным моделям, жестким схемам, а исследовать феномены империй и наций, центров и периферий как специфические формы историко-политического бытия, определяемые конкретной временной и пространственной реальностью. Особого пояснения требует намеченное авторами использование современных методологических наработок относительно центров и периферий, также призванное продемонстрировать перспективы ревизии или даже полного отказа от привычных дихотомий, сомнительность которых не раз подчеркивалась знатоками историографии поздней Османской империи и ранней Турецкой республики (Э. Цюрхером, например). Однако и на более широком материале мифология вокруг противопоставления империи и нации, империализма и национализма столь часто критиковалась1, что представляет собой отдельный историографический феномен, требующий не столько обращения к истории понятий, сколько существенного пересмотра понятийного аппарата, что, к сожалению, едва ли возможно в ближайшей перспективе. Pax Ottomanica — как концепция анализа и трансформации прежней историографической традиции, часто отягощенной национальными военно-политическими мифами и следами войн исторической памяти, — позволит решить ряд исследовательских задач, способствует историзации целых пластов событий и процессов, имеющих ключевое значение для многих регионов трех континентов. Имперская инерция, проявляющаяся во всех сферах общественной жизни, делает возможным рассмотрение исторического полотна без привязки к неустойчивым политическим границам и вне конъюнктуры сложившихся оценок, подверженных эмоциям и стереотипам. Pax Ottomanica, складывавшийся со второй половины XIV в. и вполне оформившийся за 500 лет в структурированное на всех уровнях явление, не мог быть демонтирован за в десятки раз более короткий срок ни упорными усилиями великих держав, ни жестокими следствиями почти постоянных этноконфессиональных конфликтов. До сих пор было принято применять данный термин лишь к периоду пика османской экспансии, особенно в Европе, не заходя при этом далее Карловицкого конгресса. Однако сила имперской инерции и продолжавшееся еще век, полтора, а то и два столетия господство Константинополя на многих территориях Балкан, как и долгосрочные последствия этого, не поддавшиеся порой даже самому упорному искоренению и этническим чисткам, позволяют говорить о Pax Ottomanica как минимум до ликвидации Османской империи. Баланс между силами имперской и даже постимперской когезии и импульсами национального обособления и фрагментации далеко не столь очевиден, как принято считать в русле прослеживания национально-освободительной борьбы и содействия ей внешних сил. В рассматри1 См., напр.: Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма / Под ред. И. Герасимова, М. Могильнер, А. Семенова. М., 2010.
ВВЕДЕНИЕ. Имперское измерение трансформации Pax Ottomanica, 1878–1923 гг. ... ваемой книге период Pax Ottomanica оставался одной из основных форм идентификации настоящего и ближайшего прошлого и будущего для населения большей части Балкан, Малой Азии, всего Ближнего Востока, включая Аравийский полуостров, Египта и будущей Ливии, сказываясь и в Закавказье, на Северном Кавказе и в ряде регионов Среднего Востока и Туркестана. Лишь крайне медленно уходят в прошлое однозначные оценки статуса и места Османской империи в мировой экономике рубежа прошлого и позапрошлого веков как «полуколонии». В этом повинны не только до сих пор используемые советские работы с транслируемым из поколения в поколение уже почти век набором иллюстративных примеров «под» марксистскую методологию, но и отголоски антантовской антиосманской, а затем и антитурецкой пропаганды 1914–1923 гг. В связи с подобным положением в историографии особое значение приобретает последовательное обращение к новой имперской истории1, комплексной истории колониализма в его новом понимании и исследование встречного (из Османской империи) потока импульсов разного рода, до этого игнорировавшихся в угоду создаваемой картине односторонней экспансии, проникновения и деформации традиционного и «отставшего» османского общества в связи с «передовым», «хищническим»/«прогрессивным» империализмом европейских великих держав. Постепенно уходит в прошлое и огульное осуждение империй как формы интеграции пространств и народов, даже на том материале (включая османский и российский/советский), что ранее использовался для откровенного смакования деталей неудач и «ошибок» тех или иных имперских проектов2. Компаративный анализ дает продуктивные результаты не только на межимперском уровне и не обязательно в рамках одной или смежных выделенных эпох3, — хотя именно такой подход наиболее привычен и действительно продуктивен4, — но и в сочетании с другими призмами рассмотрения, особенно институциональной, когда структурно-системная аналитика обращается к материалу больших временных интервалов или пространственного размаха в одной из избранных сфер жизни общества или целой цивилизации. Интересные результаты подобные опыты, в рамках истории понятий, правовых аспектов этнических конфликтов или экономической истории, например, уже дали5, так что следует лишь 1 Дискуссии о методологии и поиске корректной тональности в освещении многих событий имперской истории продолжаются. См., напр.: Middell M. Empires in Current Global Historiography // Comparativ. 2019. Jg. 29. Hf. 3. P. 9–22. 2 См., напр.: Helpless imperialists: imperial failure, fear and radicalization / Ed. by M. Reinkowski, G. Thum. Göttingen, 2013. 3 Разумеется, бывают и чрезмерно смелые «замахи», хотя и в них есть определенный позитивный результат, в том числе для первичной проверки предложенных аналогий. См., напр.: Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: Исторические ряды, вековые тренды, периодические циклы. М., 2007. 4 См. ряд методологических размышлений о перспективах подхода на очень широкой хронологически и географически палитре примеров: Stuchtey B. Zeitgeschichte und vergleichende Imperiengeschichte // VfZ. 2017. 65(3). S. 301–337. 5 Kartal C. Der Rechtsstatus der Kurden im Osmanischen Reich und in der modernen Türkei: der Kurdenkonfl ikt, seine Entstehung und völkerrechtliche Lösung. Bremen, 2001; Yildiz H. Ein Staatsverständnisvergleich zwischen Deutschland, Großbritannien, dem Osmanischen Reich und der Türkei. B.; Münster, 2007;