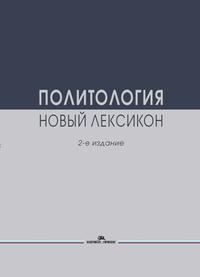Политология. Новый лексикон
Покупка
Новинка
Тематика:
Основы социологии и политологии
Издательство:
Аспект Пресс
Под ред.:
Соловьев Александр Иванович
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 528
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Профессиональное образование
ISBN: 978-5-7567-1322-0
Артикул: 819333.04.99
Представленные в книге статьи раскрывают понятия и категории, характеризующие актуальные формы традиционных политических процессов на современном этапе развития общества, а также описывают ряд новых явлений и процессов, находящихся на стадии концептуализации. Тексты содержат новые теоретические материалы, демонстрируют ряд нетривиальных идей и подходов, позволяют увидеть различные междисциплинарные связи при исследовании мира политики. Книга предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, изучающих политическую науку, а также для всех, кто интересуется проблемами современной науки.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Москва 2024 ПОЛИТОЛОГИЯ НОВЫЙ ЛЕКСИКОН Под редакцией профессора А.И. Соловьева Издание второе, исправленное и дополненное
УДК 327 ББК 66.4 П50 Рекомендовано к печати Ученым советом ИМЭМО РАН Рецензенты доктор философских наук В.С. Комаровский доктор политических наук, доктор исторических наук Я.А. Пляйс П50 Политология. Новый лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2024. — 525 с. ISBN 978-5-7567-1322-0 Представленные в книге статьи раскрывают понятия и категории, характеризующие актуальные формы традиционных политических процессов на современном этапе развития общества, а также описывают ряд новых явлений и процессов, находящихся на стадии концептуализации. Тексты содержат новые теоретические материалы, демонстрируют ряд нетривиальных идей и подходов, позволяют увидеть различные междисциплинарные связи при исследовании мира политики. Книга предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, изучающих политическую науку, а также для всех, кто интересуется проблемами современной науки. УДК 327 ББК 66.4 ISBN 978-5-7567-1322-0 © Коллектив авторов, 2024 © ООО Издательство «Аспект Пресс», 2024 Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте и в интернет-магазине https://aspectpress.ru
СОДЕРЖАНИЕ Предисловие к первому изданию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Предисловие ко второму изданию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Раздел I КОНЦЕПТЫ, ТЕОРИИ, ДИСЦИПЛИНЫ Интеллектуальная среда в пространстве политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Критическая расовая теория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Математика и политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Политический альтернативизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Политический инцидент-менеджмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Политическое конструирование действительности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Социолингвистика политического . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Теория вето-игроков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Теория селектората . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Экономическая политология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Раздел II ВЛАСТЬ, ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ Государственная состоятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Деинституализация правящей политической элиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Институциональный дизайн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Кликократия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Латентная сфера политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Медиатизация политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 «Недостойное правление»: генезис, механизмы и последствия . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Неформальное правление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Ойкофобия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Политическая стабильность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Политическая культура нации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Политические скандалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Политическое оспаривание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Политическое пространство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Публичная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Публичное управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Разделенные общества: концепты и социально-политические реалии . . . . . . . . . . . . 282 Регион и регионализм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Сетевая публичная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Символическая политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Современный популизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Социальные арены публичной политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Фронтир: политические ракурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Цифровое гражданство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Раздел III ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА Антикризисная государственная политика в условиях инфодемии . . . . . . . . . . . . . . 370 Государственная политика в области здравоохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Государственные решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Коммуникативная эффективность в публичной политике и управлении . . . . . . . . . . 403 Конвергентные технологии и государственная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Международная передача знаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Национализм versus патриотизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Политика и образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Политика национальной идентичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Политизация религии и атеизм в политике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Секьюритизация политики идентичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Современные миротворческие операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Цифровое государственное управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Этнополитика в глобальном измерении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Экологический патриотизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Предисловие к первому изданию П убликация данной книги в известной степени является продолжением книги «Политология. Лексикон», изданной в 2007 г. и посвященной базовым категориям политической науки1. Однако прошедшее время показало потребность не только в теоретическом уточнении целого ряда параметров, казалось бы, хорошо известных явлений, но и необходимость отображения политических процессов, разворачивающихся под влиянием современных геополитических и геокультурных конфликтов, цифровизации экономики и государственного управления, неумолимо влияющих на жизненное пространство человека инфодемии и экологического кризиса, а также иных проблем, побуждающих трансформацию связей политики с разнородными социальными и природными конструкциями. Отчетливо видно и то, что национальные политии, да и мировое сообщество в целом самым непосредственным образом испытывают целый ряд вызовов, связанных с угрозами применения ядерного оружия, рисками климатических катастроф и нерегулируемым распространением вирусов, миграционными волнами, ломающими политико-культурные комплексы коренного населения, и иными угрожающими человечеству серьезными опасностями. Понятно, что приметы нынешнего времени не только заставляют по-новому прочитывать традиционные коллизии политического развития (связанные, к примеру, с новыми сочетаниями демократии и автократии, гражданского активизма и административно-политическими барьерами, импортом институтов, транзитом власти, противоречиями медиадискурса и др.), но и ставят перед исследователями новые задачи, вызванные неразгаданными траекториями развития несостоявшихся государств, эволюцией идентификационных моделей или же неисследованными формами влияния цифровых комплексов (с использованием искусственного интеллекта) на системы государственного управления. Немалые сложности в аналитическом отображении всех этих процессов создают и все более ощутимые, скрытые от населения формы коммуникации и применения власти. И, прежде всего, со стороны тех политических тяжеловесов, которые «рулят», «не отбрасывая тени» и действуя «в тени иерархии» (Б. Джессоп). Не случайно поэтому все больше ученых ориентируется на изу чение латентной, публично недекларируемой программатике действий и неформальных договоренностей правящей элиты, которая, собственно, и провоцирует необъяснимые для общества «повороты» и «зигзаги» правительственной политики. Нельзя не видеть и того, что новые формы выстраиваемой политической архитектуры сегодня сопрягаются с нарастанием непримиримости позиций политических конкурентов, провоцирующей усиление взаимной враждебности и агрес1 Политология. Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. М.: Российская политическая энциклопедия, 2007.
сивности, углубляющей социокультурные расколы и сеющей недоверие между народами. Причем такое воспламенение далеко не лучших «человеческих» черт homo politicus (Э. Баталов) затрагивает как мотивы элитарных групп (с я-концепциями лидера и его окружения), так и сознание коллективного актора со свойственными ему стереотипами, мифами и предрассудками. Важно, однако, что наиболее острые формы конфронтационного восприятия действительности не просто усиливают амбивалентный характер межгосударственных отношений или политического регулирования в отдельных странах. По сути, такие чувства и представления, обусловливая постоянное соскальзывание правящих режимов к проектам, разжигающим нетерпимость между народами, провоцирующим силовое решение противоречий или масштабных рестрикций, в конечном счете разрушают рациональные основания современного мироустройства. Впрочем, возможно, более существенным последствием таких ментальных изменений является изживание гуманистических оснований политических методов управления конфликтами. А это, в свою очередь, позволяет помыслить и о социальных границах политики как таковой, ее способности к сохранению договорных возможностей при урегулировании противоречий между различными социальными (национальными, конфессиональными, территориальными и проч.) акторами. Особенно в условиях резкого обострения проблем, связанных с выживанием человеческого сообщества. Как бы то ни было, но смешение традиционной логики политического позиционирования государств и постсовременных практик проектирования будущего стремительно уничтожает нормативные постулаты политической теории, предвосхищающие «конец истории», неизбежность демократизации (со всем шлейфом присущих ей механизмов) или преимуществ «ценностно-цивилизационной» траектории государственного развития. На этом фоне неизбежно расширяются не только идеологические и технократические трактовки событий, но и качественно увеличивается объем используемой метафорики для объяснения развертываемых процессов и конфликтов. Не случайно в науке постоянно используется префикс post для маркировки не до конца артикулируемых событий, который всего лишь олицетворяет ряд новых процессов. Впрочем, сегодня такой путь, видимо, остается единственно возможным для достижения некой научной конвенции. В качестве фактора, смещающего ориентиры в аналитической рамке научных исследований современных процессов, стоит упомянуть и роль политико-административного контроля, побуждающего внутреннюю цензуру и конформизм специалистов, предпочитающих профессиональной этике политическую лояльность. Отечественная история сохранила в памяти академического сообщества все издержки и девиации научного знания, стремящегося «след в след» идти по дороге, указанной «правящей партией». В любом случае нынешняя повестка требует от ученых изживать гипертрофический сервилизм, толкающий их к идеологизации политологического знания и не позволяющий формировать научную картину мира политики. Образование нестандартных форм политических изменений укрепляет потребность в дальнейшем развитии отечественных научных школ, творческом освоении ими достижений современного языка мировой науки о политике, усилении противостояния теоретическому империализму, отрицающему правомерность сущностного оспаривания политических категорий (У. Галли) и порождающему пределы в отображении новых оттенков смысла. В то же время нельзя игнорировать и тот когнитивный шлейф, который тянется за сложившимися интерпретациями явле
ний и так или иначе влияет на их современное истолкование и переосмысление. Так что, только органически сочетая эти интеллектуальные потоки, можно адекватно отобразить складывающиеся политические изменения, успешно решить противоречия, вызванные расхождением смыслов с динамикой содержательных превращений власти, политики, государства и иных базовых для политической науки явлений. Одним словом, сегодня научное знание о политике выстраивается не только в силу противоречивого, но в целом привычного тренда, связанного с переплетением усилий различных научных школ и направлений, стремящихся уловить основные политические изменения, но и под давлением условий, находящихся за границами контролирующих возможностей государства и общества, в конечном счете умножающих опасности и риски мирового развития. В силу этого нынешняя стадия эволюции мира политики заставляет с еще большим вниманием относиться к суждениям Ж. Дерриды, полагавшего, что политические тексты не имеют раз и навсегда заданных значений, предлагая для следующих поколений людей и ученых их новое и неопределенное множество. Однако сегодня такая установка не только побуждает интенсификацию теоретических изысканий, но и позволяет проблематизировать вопрос о достижении политикой принципиальных пределов своего исторического функционала, способности к несиловому предотвращению рисков и купированию насилия при регулировании человеческих конфликтов. Такие содержательные трансформации мира политики, освещающие новые грани политических процессов и помогающие уловить субстанциональные черты их эволюции, требуют как уточнения новых акцентов в их интерпретации, так и обновления многих методологических подходов. Иначе говоря, сложности нынешней стадии политгенеза усиливают конфликт концептуализации и теоретизации научных исследований, отбор базовых и критически важных переменных для релевантной схематизации объекта. И хотя набор понятий не исчерпывает всего перечня новых теоретических инструментов, итогом исследований всегда должно быть приращение знаний, преобразующих содержание разрабатываемых эпистем. Собственно, эта установка и объединяет ученых, принявших участие в написании этой книги и постаравшихся познакомить читателей со своим видением ряда проблемных зон политической теории и политгенеза. Акцентируя внимание на универсальных и национальных особенностях развертывания когнитивных и политических процессов, наши авторы (ряд из которых за последние годы сделали заметный вклад в развитие отдельных направлений отечественной политологии) представили некий эскиз современных представлений о выбранных ими нетривиальных сюжетах политической науки. Понятно, однако, что наряду с этим многие — не менее актуальные — проблемы и даже целые научные направления (политическая психология, политическая коммуникативистика, биополитика и др.) были опущены, как в силу ограниченного объема книги, так и научной специализации участников проекта. Что, впрочем, оставляет научное пространство для расширения подобных изданий в дальнейшем. С точки зрения структуры работы текст обобщен в три раздела: «Концепты, теории, дисциплины», «Власть, политика, управление» и «Государство и государственная политика». Надеемся, что книга станет полезной для всех, кто интересуется политикой и политической наукой. А.И. Соловьев
Предисловие ко второму изданию П рошло немного времени по сравнению с выходом первого издания «Нового Лексикона», но потребность в расширении проблемного поля стала вполне очевидной. Это не только связано с нарастающей актуализацией ряда традиционно значимых вопросов политической теории, но и с динамичным изменением фоновых, средовых параметров общественного развития, в том числе и интеллектуальной атмосферы как общества в целом, так и научных исследований. Эти многообразные факторы побуждают политологов обновлять и даже по-новому выстраивать конфигурацию научного поиска. При подготовке первого издания мы уже отмечали, что новые вызовы интенсивно меняют и усложняют партитуру проблемного поля науки, в известной степени обесценивая прежние основания для обобщения и типизации политических структур и процессов. Однако такие накапливающиеся проблемы, обладая известным дефицитом возможностей их эмпирического истолкования, подталкивают ряд ученых к запуску новых версий теоретического обращения (переиздания) уже накопленных знаний и выводов. При таком освоении актуального опыта исследования идут по кругу, тиражируя прежде доминировавшие подходы и удовлетворяя ученых образами, не побуждающими рефлексию и черпающими «новое» в давно минувших представлениях. Такая в известной степени архетипизация идей подогревается и некоей прагматической разумностью, превращающей аналитика в адепта повседневности, остро чувствующего доминирующие в обществе политические зависимости. Однако понятно, что идеи с такой степенью «глубокого залегания» не просто существенно ограничивают поисковый компонент научного знания (демонстрируя установление учеными персональных границ постижения реальности), но и провоцируют тиражирование не подлинных, а правдоподобных истин. Иначе говоря, приверженность таких ученых принципам «когнитивного империализма» вкупе с их исследовательской «разумностью» изживает доверие общества как к поиску истины, так и к собственному «я». Отметим, что такой интерпретации подвергаются не только базовые конфликтные диспозиции власти и неравенства (которые нередко обретают оттенки эсхатологической мысли) или же принципы теоретического моделирования. К ним относятся и традиционные для науки проблемы, например, определения идентификационных моделей (раскрывающих диспозиции я-мы-они), политизации религиозных ценностей (оппонирующих атеистическому мировоззрению), формирования политических конструкций образовательных систем, волатильности националистических и патриотических измерений политической действительности, трансформации интеллектуальной среды в поле политики и многие другие. Конечно, трудности научного освоения нового не сводятся к обозначенным проблемам. Чего стоит хотя бы формирование теоретических схем, выпадающих
из прежних объяснительных конструкций и потому – с учетом остроты ситуации и дефицита достоверной информации – переходящих на широкое использование метафорики и транскриптов профанного дискурса. Такая парадоксальная ситуация показывает, что образы настоящего меняют устоявшиеся модели и гипотезы на основе интуиции и воображения ученых, заменяющих им теоретические абстракции. В этом контексте политическая рефлексия, сталкиваясь с законсервированной архаикой, конфликтующей с (пост)модернистскими идеями, демонстрирует, как исследовательские регистры усиливают субъективированные интерпретации властно-политических коллизий, подталкивая исследователей к идеологизированному прочтению настоящего, что называется, до краев переполненного оценками с противоположными значениями. В то же время на этом интеллектуальном фоне политологическое знание одновременно сталкивается и с многочисленными нетривиальными подходами, будирующими обновление теоретико-методологического аппарата. Например, с посткосмическими идеями (принижающими уникальность «человека-политического» как преобразующего действительность актора) или с постгуманистическими подходами, рассматривающими его в рамках усиления целостной комбинации «природы», «животного мира» и (особенно под влиянием цифровизации) «объектов технического характера» (отражающих все возрастающую пластичность политических акторов в вопросах единения с «аппаратными структурами» (К. Дойч). Понятно, что проецирование этих широких смысловых конструкций — как неких новых «отблесков духовности» (З. Юнг) — на поле политики заставляет не только по-новому воспринимать, но и в какой-то степени репрессировать теоретические аксиомы прошлого. Неудивительно, что в рамках такой познавательной ситуации схематизм и апелляция к устойчивым образам прошлого сталкиваются как с усилением методологической разнородности научного поиска, так и с распространением интуитивно очевидных (но слабо подтвержденных эмпирически) оценок и интерпретаций политических реалий. Коротко говоря, нарастающая сложность политических процессов увеличивает не только интеллектуальную емкость исследуемых проблем, но и демонстрирует зависимость анализа от сенситивных и ментальных оснований политологического сообщества. Это касается не только истолкования эмпирической реальности, но главное – особенностей проникновения в тайны политического волеизъявления, рассекречивания обезличенных политических процессов, скрывающих разнообразные формы преобразующей действительность политической воли. Основным же следствием сочетания политической динамики вкупе с гетерогенностью научного общества становится формирование разрозненной ритмики и скорости осмысления нового в различных научных школах, умножающих ситуативные и локальные взгляды на складывающуюся реальность. Одним словом, сложность и релятивность происходящего, не укладывающихся в канонические схемы, свидетельствуют о нарастании потребности в аналитике, соответствующей сегодняшнему дню, способной справиться с новыми вызовами. Эту задачу надо решать, даже если разрозненные формы теоретического восприятия происходящего еще не складываются в его устойчивые образы, требуя коллаборации различных областей знаний и сочетания эпистемологических технологий, используемых различными отраслями научного знания.
Учитывая обозначенные трудности, отражающие новые вызовы, в книге появилось несколько новых работ, раскрывающих ряд актуальных идей и подходов в области политологических исследований. В то же время, понимая, что ни одно новое издание не может угнаться за жизненными превращениями поля политики, невольно задаешься вопросом: а не стоит ли превратить «Новый Лексикон» в формат некоего периодически обновляющегося Альманаха, в издание, пусть даже в экспериментальном ключе сопутствующего реальным изменениям в поле политики? И учитывая, что инициированные политикой проекты подчас достаточно далеко выходят за ее границы, провоцируя системность идущих превращений, может быть, стоило бы сделать этот альманах междисциплинарным? По крайней мере, в недалеком прошлом у Российской Ассоциации политической науки был весьма успешный опыт такого рода проектов в виде ее систематически издаваемых Ежегодников. А.И. Соловьев