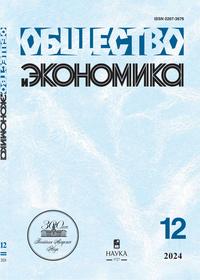Общество и экономика, 2024, № 12
международный научный и общественно-политический журнал
Покупка
Новинка
Издательство:
Наука
Наименование: Общество и экономика
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 114
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Международный научный и общественно-политический журнал ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА SOCIETY AND ECONOMY № 12,2024 Журнал учрежден академиями наук - участниками Международной ассоциации академий наук Выходит 12 раз в год. Главный редактор журнала — Е.Б. Ленчук, доктор экономических наук Редакционная коллегия: д.э.н. А. Алирзаев, академик НАН Беларуси Е. Бабосов, академик НАН Украины, иностранный член РАН В. Геец, д.э.н. Р. Джабиев, академик АН Республики Таджикистан М. Динор-шоев, академик РАН В. Журкин, член-корр. РАН И. Иванов, д.э.н. С. Калашников, академик АН Республики Таджикистан Н. Каюмов, академик НАН Кыргызской Республики Т. Койчуев, д.э.н. П. Кохно — зам. гл. редактора, д. филос. н., иностранный член РАН Нгуен Зуй Кун, академик РАН А. Некипелов, академик НАН Беларуси П. Никитенко, академик РАН Б. Порфирьев, д.э.н. А. Расулев, академик АН Молдовы А. Рошка, академик НИА Республики Казахстан О. Сабден, В. Соколин, д. филос. н. О. Тогусаков, академик НАН Украины Ю. Шемшучен-ко, д.э.н. |Е. Ясин. © «Общество и экономика», 2024 Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции не допускается.
СОДЕРЖАНИЕ
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ политики
Наталия Смородинская, Даниил Катуков. Глобальный разворот в национальных промышленных стратегиях: курс на технологическую самодостаточность........................ 5
Светлана Ильина. Технологический суверенитет в отражении патентной статистики: искусственный интеллект и полупроводники. 26
Бэла Батаева, Наталья Киселёва, Людмила Чеглакова, Борис Сытин. Участие бизнеса и некоммерческих организаций в реализации национальных проектов и повестке устойчивого развития (на примере Красноярского края)......................... 34
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Алексей Сеадов. Восточное и западное направления трудовой иммиграции в Россию: исторические маркеры и перспективы. 46
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Дарья Ушкалова. Внешняя торговля России: вызовы и уроки 3 лет санкционного давления................................... 65
Артем Пылин. Трансформация внешнеторгового взаимодействия России с постсоветскими странами в условиях санкций.... 80
Илья Медведев. Внешнеторговое взаимодействие СГ—ЕАЭС— БРИКС: современные тренды и перспективы................. 92
Алфавитный указатель................................... 106
CONTENTS
ECONOMIC POLICY
N. Smorodinskaya, D. Katukov. A global turn in national industrial strategies: the move towards technological self-sufficiency. 5
S. Ilyina. Technological sovereignty as reflected by patent statistics: artificial intelligence and semiconductors................... 26
B. Bataeva, N. Kiseleva, L. Cheglakova, B. Sytin. Participation of business and non-profit organizations in the implementation of national projects and sustainable development agenda (with reference to Kras- 34 noyarsk Krai).............................................
SOCIAL ISSUES
A. Sedlov. Eastern and western directions of labor of labor immigration to Russia: historical markets and prospects........... 46
WORLD ECONOMY
D. Ushkalova. Russia’s foreign trade: challenges and lessons of 3 years of sanctions pressure...................................... 65
A. Pyiiii. Transformation of Russia’s foreign trade integration with post-soviet countries in the context of sanctions................. 80
1. Medvedev. Trade interaction between the Union State—EAEU— BRICS: modern trends and prospects......................... 92
Alphabetical Index........................................ 106
Журнал «Общество и экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальностям:
• 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки);
• 5.2.5. Мировая экономика (экономические науки);
• 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки);
• 5.4.7. Социология управления (социологические науки).
Научно-организационная работа по изданию журнала осуществляется при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики Российской академии наук
ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА, 12, 2024
©2024
УДК: 338.22
Наталия Смородинская
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУН Институт экономики РАН
(г. Москва, Российская Федерация)
(e-mail: smorodinskaya@gmail.com)
Даниил Катуков
научный сотрудник ФГБУН Институт экономики РАН
(г. Москва, Российская Федерация)
(e-mail: dkatukov@gmail.com)
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗВОРОТ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРАТЕГИЯХ: КУРС НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ
Статья исследует глобальный феномен секьюритизации промышленной политики в начале 2020-х годов, связанный с синхронным переходом различных стран мира к курсу на достижение технологической самодостаточности/суверенитета в приоритетных секторах (курс на ТС). Рассмотрены причины разворота стран от приоритетов экономической эффективности к доминированию приоритетов экономической безопасности. Выявлены типовые общие черты и национальные особенности курса на ТС в ведущих развитых и развивающихся странах (США, ЕС, Китай, Индия, Бразилия), а также издержки и риски этих стран в достижении его целей. На фоне данного глобального тренда проанализирована специфика российского курса на ТС в условиях санкций, сформулированы объективные ограничения для его успешной реализации на внутреннем и внешнем контуре. Сделан вывод, что тренд на секьюритизацию будет усиливаться, но накопление издержек от геополитической фрагментации мировой экономики со временем вернет страны к прежней экономической открытости.
Ключевые слова: экономическая безопасность, технологический суверенитет, секьюритизация промышленной политики, геополитическая фрагментация мировой экономики, российская технологическая политика.
DOI: 10.31857/S0207367624120014
После нескольких десятилетий участия стран в глобализации с установкой на многостороннюю кооперацию в мировом сообществе наметился внезапный разворот в сторону большей экономической закрытости и укрепления странами своей технологической самодостаточности, или технологического суверенитета (далее — ТС). На этом новом глобальном тренде сфокусирована современная промышленная политика, что во многом сломало логику ее поступательной исторической эволюции в соответствии с ходом развития рынков и усложнения производства.
С точки зрения преобладающих трендов промышленная политика за последние 70 лет (начиная с 1950-х годов) прошла три этапа развития. Ее первая модель — вертикальная, связанная с созданием странами завершенных отраслевых цепочек
Исследование выполнено в рамках государственного задания Центра инновационной экономики и промышленной политики Института экономики РАН на тему «Структурная модернизация и обеспечение технологического суверенитета России».
Смородинская Н., Катуков Д.
и признанная впоследствии классической (1950—1980-е годы), — сменилась в эпоху открытия рынков горизонтальной моделью, нацеленной на повышение эффективности рыночных институтов при рамочных государственных интервенциях (1980—2000-е годы). К концу 2000-х годов, когда производство сложных продуктов стало глобально распределенным, вертикальная модель окончательно утратила свою актуальность, а горизонтальная оказалась недостаточной для ускорения инновационного перехода. По рекомендации ОЭСР все типы экономик начали внедрять системную модель — функциональный синтез первых двух вариантов, рассчитанный на культивирование инновационных кластеров и иных сетевых экосистем [1]. К концу 2010-х годов многие развитые и крупные развивающиеся страны уже активно развивали экосистемную среду, создавая институты для интерактивной кооперации экономических агентов. Однако в начале 2020-х годов этот тренд резко прервался. На разных континентах произошла синхронная и полная перезагрузка (reloading) промышленных стратегий — их переключение со структурных приоритетов, связанных с инновационно-ориентированным ростом, на особые приоритеты национальной безопасности [2,3]. В экономическую логику стратегий плотно вошли геополитические соображения, а в экономическую науку и практику—понятийные заимствования из теории международных отношений [4, 5]. Наряду с термином секьюритизация речь идет о таких новых атрибутах промышленной политики, как френдшоринг (англ.: friend-shoring) и других, рассматриваемых нами ниже. Основу этой перезагрузки и составил курс на ТС.
Мы описываем причины секьюритизации промышленной политики (раздел 1), выявляем общие черты и национальные особенности курса на ТС в ведущих развитых и развивающихся странах, включая их возврат к элементам классической промполитики (раздел 2), систематизируем издержки и риски этих стран в области успешного достижении ТС (раздел 3). Отталкиваясь от глобального тренда, мы показываем специфику аналогичного российского курса в условиях санкционного давления (раздел 4), анализируя его инструменты и объективные ограничения на внутреннем и внешнем контуре с учетом уже имеющихся публикаций на данную тему [4, 6—9].
1. Секьюритизация промышленной политики как глобальный феномен
В данной статье под термином секьюритизация подразумевается глобальный разворот в направлении безопасности, который стал кумулятивной реакцией стран на риски и вызовы последних лет в глубоко взаимосвязанном мире. Цифровая среда и распределенное производство в условиях открытых рынков принципиально усилили взаимозависимость национальных экономик, что обеспечило им выигрыши от углубленного разделения труда, но одновременно повысило их хрупкость в случае обострения межстрановых конфликтов или технологического соперничества.
Во-первых, шок пандемии 2020 г. вызвал всплеск политических трений в мировом сообществе, обозначив появление нового типа кризисов, когда любой локальный сбой в глобальной системе поставок создает волну распространения производственных сбоев от страны к стране. Возникновение дефицита различных видов жизненно важной продукции (медицинские изделия и др.) побудило
Глобальный разворот в национальных промышленных стратегиях...
7
правительства, особенно в Европе, активизировать идеи протекционизма, снижения зависимости ключевых отраслей экономики от критического импорта из Азии, укрепления трансграничных цепочек поставок путем диверсификации их звеньев и возврата производственных мощностей в страну происхождения, известного как политикареи/оринга (англ.: reshoring) [10].
Во-вторых, во взаимоотношениях между странами резко усилилось применение санкций — мер экономического принуждения (англ.: economic corrciton) по политическим мотивам. Количество этих мер возросло еще в 1990-е годы, с окончанием Холодной войны, но после глобального финансового кризиса 2008 г. оно начало расти по экспоненте [11]. Причем если санкционирование небольших стран (Иран, Ирак и другие) почти не препятствовало свободе торговли и набирающей ход глобализации, то с наложением в 2022 г. беспрецедентного объема ограничений на Россию, т.е. на крупную экономику и ведущего мирового энергопоставщика, санкционные инициативы приобрели масштабные побочные последствия¹. С этого времени сочетание санкций, контрсанкций и вторичных санкций стало системно влиять на международную торговлю, порождая непредсказуемые риски для всех ее участников [5].
В-третьих, глобализация позволила подняться новым мощным центрам силы, способным использовать возросшую производственную взаимозависимость стран как инструмент вепонизации (англ.: weaponization) — оказания экономического давления на зарубежных партнеров в соответствии со своими геополитическими интересами, т.е. фактически как оружие (weapon) в сфере деловых связей¹ ². Прежде всего Китай, ставший главной промышленной фабрикой мира, получил контроль над ключевыми цепочками промежуточных поставок, особенно в США и Европу, что открыло ему широкие возможности давления на страны Большой семерки (через демпинг, скупку иностранных компаний и др.) [12]. К аналогичному давлению стала прибегать и Россия в отношении стран, зависимых от ее энергопоставок или закупок продовольствия [13]. Вкупе с мерами экономического принуждения, применяемыми со стороны инициаторов санкций, и особенно США (в виде ограничений в области долларовых расчетов), эти практики подорвали доверие между Западом и Востоком. Дополнительными факторами кризиса доверия и разрыва устойчивых партнерских связей стали торговая война Китая с Западом (с 2018 г. с США, а затем и с ЕС), информационные войны, переход российско-украинского конфликта в затяжную стадию и развертывание военного конфликта на Ближнем Востоке (с осени 2023 г.).
Наконец, наиболее фундаментальной причиной перезагрузки промышленных стратегий считается усиление стратегического соперничества между США и Китаем
¹ К концу 2024 г. совокупное число наложенных на Россию ограничений, включая индивидуальные и санкции 2014 г., превысило 22 тыс. (Russia sanctions dashboard. 02.08.2024. URL: https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard). При этом Россия является «большой страной», чьи поставки оказывают критическое воздействие на состояние энергетического и многих сырьевых рынков.
² Под политикой вепонизации в зарубежной и российской литературе понимается нанесение экономического ущерба стране-партнеру, с которой имеются политические разногласия. (Макаров И.А. Таксономия торговых барьеров: пять типов протекционизма // Современная мировая экономика. 2023. Т. 1. N 1 .С. 74-94).
Смородинская Н., Катуков Д. за глобальное технологическое лидерство [14]. Возможный разрыв технологических связей между этими двумя сверхдержавами, относимый к политике декаплинга (англ.: decoupling), т.е. к политике размежевания, расценивается экспертами как «технологическая Холодная война», которая ведет к образованию обособленных производственных экосистем, подрывая естественный ход экономической интеграции [ 15]. В итоге страны теперь воспринимают открытость экономики и многостороннюю кооперацию уже не как преимущество, а как источник зависимости и подрыва безопасности [16]. Это породило распространение так называемого френдшоринга (англ.: friend-shoring) — требований правительств к бизнесу выстраивать торгово-производственные цепочки в ключевых секторах только со странами-единомышленниками, которые разделяют схожие ценности и несут минимальные риски конфликтов [17]. Как следствие, возникла угроза геополитической (геоэкономической) фрагментации мировой экономики на два недружественных блока — условный Запад (США и их союзники, включая ЕС) и условный Восток (Китай и его союзники, включая Россию), с одновременным появлением группы нейтральных государств (например, Бразилия, Индия, Турция и др.), стремящихся маневрировать, поддерживая торговлю с обоими блоками [18, 19]. Хотя контуры блокового объединения стран еще не до конца ясны, очевидно, что оно не тождественно естественной регионализации торгово-производственных цепочек, когда рыночные факторы «разгоняют» сетевые связи по трем макрорегионам мира (Северная Америка, Европа, АТР) с образованием там открытых производственных экосистем [10]. Понятия национальной экономической безопасности и технологического суверенитета не имеют пока ни выверенных теоретических обоснований, ни однозначной научной трактовки [4]. Однако процессы секьюритизации развиваются на практике в совпадающем формате, когда достижение ТС является как ключевой повесткой промышленной политики, так и центральным направлением обеспечения безопасности. Как следует из обобщения литературы [2, 3,15,17,20], курс на ТС призван решить две взаимосвязанные задачи — снизить уязвимость экономики перед внешними шоками, способными нанести ущерб национальной безопасности или долгосрочному благосостоянию страны и обеспечить стране независимость от ресурсов зарубежных партнеров в сфере управлении производственными процессами. Установление полного контроля над производством касается в первую очередь приоритетных секторов, связанных с критическими технологиями, как их определяет на данном этапе правительство страны. При всех страновых различиях обновленных промышленных стратегий и самого курса на ТС мы можем выделить здесь целый ряд общих черт. Во-первых, в промышленной политике приоритеты безопасности начинают впервые доминировать над приоритетами эффективности. Страны, видимо, жертвуют традиционным принципом минимизации затрат и максимизации результатов ради предотвращения еще более значимых рисков. Однако вторжение политически мотивированных соображений в логику экономических решений делает ее изначально противоречивой. Так, идея самодостаточности больше тяготеет к классической промполитике индустриальной эпохи, тогда как задача освоения технологий индустрии 4.0 — к эпохе открытых рынков и распределенного производства.
Глобальный разворот в национальных промышленных стратегиях...
9
Во-вторых, во всех странах государство активно возвращается в экономику как ключевой инвестор и отчасти как верховный управляющий. Правительства идут на беспрецедентные бюджетные вливания в те отрасли и технологии, которые они считают стратегически важными для безопасности. Это резко повышает роль бюджетного стимула и развертывания масштабных проектов-миссий, описанных М. Маццукато в ее последней книге [21]. Такие проекты призваны сосредоточить ресурсы государства и бизнеса на технологических прорывах, позволяющих стране ответить на стратегические вызовы времени (ускорить «зеленый» или «цифровой» переход, подтянуть отсталые сектора до уровня современных требований, снизить неравенство и др.).
В-третьих, страны все решительней возвращаются к протекционизму, распространяя суверенитет на два основных драйвера глобализации — движение товаров и капиталов³. США и другие развитые страны активно применяют антидемпинговые пошлины (против практик Китая), экспортный контроль, скрининг (англ.: screening) входящих и ограничение исходящих инвестиций⁴. Ведущие страны БРИКС (Китай, Индия, Бразилия) вводят импортные тарифы и иные протекционистские меры ради импортозамещения, нацеливаясь на максимальную локализацию производства. Выстраивая собственные отраслевые цепочки полного цикла, развивающиеся страны не стремятся при этом к автаркии, а пытаются найти баланс между ориентацией на самодостаточность в приоритетных секторах и дальнейшим участием в глобальных цепочках.
В-четвертых, внутренний контур курса на ТС дополняется коррекцией внешнего. Во всех типах экономик наблюдается переход от многосторонней международной кооперации к избирательной. Это достигается через разные варианты френдшо-ринга, политики дерискинга (англ.: derisking), т.е. политики снижения рисков, или через поиск компромиссов. Так, в рамках этой политики ЕС намерен защитить ключевые отрасли от давления Китая, но продолжить сотрудничество с ним в тех сферах, где угроза с его стороны минимальна. США полностью сворачивают с Китаем те торговые связи, которые касаются узкой сферы новейших технологических разработок (decoupling), руководствуясь здесь принципом «тесный двор, высокий забор» (‘small yard, high fence')⁵. Компромисс Китая сводится к достижению полной независимости от Запада в передовых секторах при допуске западных инвестиций в отстающие с предусловием передачи технологий [22].
В-пятых, в контексте безопасности крупнейшие экономики стремятся не просто укрепить свою конкурентоспособность (как это характерно для классической промполитики), но и ослабить конкурентоспособность стран-соперников с целью получения исключительных преимуществ на глобальных рынках высоких технологий.
³ Крупные экономики начали наращивать протекционизм уже после глобального финансового кризиса 2008 г. По некоторым оценкам, к 2023 г. скрининг ПИИ ввели уже 37 стран, а торговые ограничения охватили 75% мирового товарного экспорта [17].
⁴ В международной практике скрининг инвестиций является инструментом отбора тех потенциальных ПИИ, которые отвечают критериям минимизации рисков экономического принуждения со стороны партнеров.
⁵ Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on the Biden-Harris Administration's National Security Strategy. The White House. 12.10.2022. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/ speeches-remarks/2022/10/13/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-biden-har-ris-administrations-national-security-strategy
Смородинская Н., Катуков Д.
США сдерживают Китай через ограничение высокотехнологичного экспорта и запрет на исходящие инвестиции бизнеса в сектора с критическими технологиями (согласно указу Байдена 2024 г. об инвестициях в «страны риска»), а Китай планирует технологическое размежевание с США в сфере полупроводников, продолжая демпинг на мировых рынках ИКТ и «зеленых» технологий с целью вытеснения оттуда западных компаний [22]. Иными словами, политика сокращения рисков и технологического размежевания не только имеет защитные функции, но и является «агрессивным» инструментом экономического давления на партнеров [ 17].
2. Курс на технологическую самодостаточность в ведущих развитых и развивающихся странах
В Евросоюзе триггером секьюритизации послужили Brexit (2016—2020 гг.), волновые сбои в поставках при шоке пандемии (2020 г.) и возрастание геополитических рисков с началом российско-украинского конфликта (2022 г.) [23]. Курс на ТС отпочковался здесь от более общей и ранней концепции «стратегического суверенитета» [24], а его цели очерчены в Стратегии экономической безопасности ЕС (2023 г.), описывающей направления и инструменты обновленной промполитики⁶. Этот курс связывает друг с другом все ключевые программы ЕС, принятые с 2022 г. в области повышения продуктовой и технологической самодостаточности (табл. 1). Вкладывая крупные бюджетные суммы в цифровой переход и энергобезопасность, ЕС планирует стать глобальным лидером в сфере «зеленых» технологий, рассматривая их как основу модернизации всей производственной базы. Политика снижения рисков касается достижения независимости от поставок из Китая (во всех приоритетных секторах, связанных с тремя группами критических технологий), из России (по углеводородам) и из стран ЮВА (по чипам). Еврокомиссия подталкивает европейские компании к перестройке связей с третьими странами на принципах френдшоринга и к диверсификации звеньев цепочек на принципахрайтшорнинга (англ.: right-shorihg), т.е.более «правильного» их размещения на тех территориях, которые обладают инновационным потенциалом и могут при этом обеспечить бблыпую безопасность поставок.
Ради создания устойчивых цепочек с надежными поставщиками ЕС готов идти даже на снижение объемов выпуска и возрастание издержек [15].
В США курс на ТС продиктован геополитическим противостоянием с Китаем и критическим возрастанием зависимости от его поставок [25]. Триггером для отступления США от ультралиберального варианта промышленной политики стал дефицит медицинских масок при шоке пандемии [26]. Весной 2021 г. Дж. Байден своим указом вмешался в работу американских цепочек поставок с целью сделать их более устойчивыми к шокам и менее зависимыми от промежуточного импорта. Еще через год администрация США начала реализацию «современной американской промышленной стратегии» (Modem American Industrial Strategy), призванной укрепить национальную безопасность и гарантировать стране сохранение глобального экономического лидерства путем достижения лидерства в сфере
⁶ Joint communication to the European Parliament, the European Council and the Council on "European Economic Security Strategy". EUR-Lex. 20.06.2023. URL: https://eur-lex.europa.eu/le-gal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023JC0020