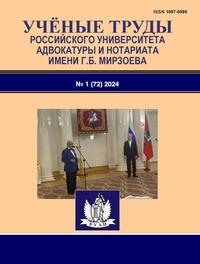Учёные труды Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, 2024, № 1
научно-правовой журнал
Бесплатно
Новинка
Основная коллекция

Тематика:
Адвокатура. Нотариат.
Издательство:
РУАН
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 200
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Учредитель и издатель: Российский университет адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева Главный редактор Г.Б. МИРЗОЕВ Заместитель главного редактора Р.В. ШАГИЕВА Ответственный секретарь Н.Н. КОСАРЕНКО Решением Президиума ВАК журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (по праву). Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http:www.info-pravo.com\ E-mail: info@info-pravo.com Журнал основан в 1997 г. и переименован в 2024 г. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-87536 УЧЁНЫЕ ТРУДЫ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АДВОКАТУРЫ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА И НОТАРИАТА ИМЕНИ ИМЕНИ Г.Б. Г.Б. МИРЗОЕВА МИРЗОЕВА Научно-правовой журнал Издается 1 раз в 3 месяца ISSN: 1997-0986 № 1 № 1 (72) (72) 2024 2024 РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ Председатель – Г. Г. ЧЕРЕМНЫХ, доктор юридических наук, профессор, президент Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, член Адвокатской палаты Московской области, заслуженный юрист РФ; Сопредседатель – К. А. КОРСИК, доктор юридических наук, вице-президент Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, президент Федеральной нотариальной палаты РФ, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры нотариата и гражданско-правовых дисциплин Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева; Сопредседатель – Г.Б. МИРЗОЕВ, доктор юридических наук, профессор, ректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, заслуженный юрист РФ, Почетный работник в сфере образования РФ, Почетный работник юстиции РФ; Сопредседатель – Ю. С. ПИЛИПЕНКО, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА А. П. АЛЬБОВ, кандидат философских наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и образования, член-корреспондент РАЕ, профессор кафедры теории и истории государства и права Российской таможенной академии (РТА); М. М. БАБАЕВ, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор; С. В. БАРАБАНОВА, доктор юридических наук, доцент, почетный работник ВПО РФ, профессор кафедры инновационного предпринимательства, права и финансового менеджмента Казанского национального исследовательского технологического университета; Л. А. БУКАЛЕРОВА, доктор юридических наук, профессор, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, профессор Государственного университета управления; А. А. ВЛАСОВ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, член Экспертно-консультативного совета Министерства юстиции РФ; С. И. ВОЛОДИНА, кандидат юридических наук, президент Федеральной палаты адвокатов РФ, проректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, профессор кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева; А. П. ГАЛОГАНОВ, доктор юридических наук, вице-президент Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, президент Международного союза (содружества) адвокатов, президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Московской области, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева; Г. Г. ГОЛЬДИН, доктор политических наук, профессор, заведующий сектора международного права кафедры фундаментальной юриспруденции и международного права Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева; В. И. ЕЛИНСКИЙ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и административного права Института экономики и права «МИРЭА – Российский технологический университет»; В. А. ЖАБСКИЙ, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
Подписной индекс
в каталоге
«Газеты. Журналы»
Агентства «Роспечать» –
36802
Адрес редакции:
105120, Москва,
Малый Полуярославский
пер., д.3/5, стр.1.
Тел./факс: 917-22-39.
E-mail:
nauka-raa@mail.ru,
info@raa.ru;
http://www.raa.ru
Компьютерная верстка –
Е.Г. Булычев
Корректор –
Е.Г. Булычев
Фото – В.Н. Еремченко
Перепечатка материалов
без согласования
с редакцией журнала
«Ученые труды
Российского университета
адвокатуры и нотариата
имени Г.Б. Мирзоева»
не допускается.
За содержание публикаций
авторов редакция
ответственности не несет.
© Российская академия
адвокатуры и нотариата,
2024
Подписано в печать
01.07.2024.
Формат 84х108/16
Печ. офсет.
Бумага офсетная.
Печ.л. х,х.
Тираж 500 экз.
Заказ №
Отпечатано в типографии
ООО «Канцлер»
150008, г. Ярославль,
ул. Клубная, 4-49.
С. В. ИВАНЦОВ, доктор юридических наук, профессор,
ученый секретарь Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
А.Е. КИРПИЧЁВ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского
и корпоративного права Российского государственного университета правосудия;
В. В. КУЛАКОВ, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник в сфере образования РФ,
ректор Российского государственного университета правосудия;
Ю. А. КРОХИНА, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин
Высшей школы государственного аудита (факультет) Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова; профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;
О. С. КУЧИН, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебных экспертиз
и криминалистики Российского государственного университета правосудия, профессор,
академик РАЕ, Почетный адвокат России;
А. Н. ЛЁВУШКИН, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина;
А. В. МОРОЗОВ, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры компьютерного права и
информационной безопасности, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;
Н. Г. МУРАТОВА, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета,
заслуженный юрист Республики Татарстан;
В. В. РАЛЬКО, доктор юридических наук, заведующий кафедрой нотариата и гражданско-правовых
дисциплин Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева,
нотариус города Москвы, член комиссии по нотариату Ассоциации юристов РФ;
И. М. РАССОЛОВ, доктор юридических наук, профессор кафедры информационного права
и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;
Ю.А. СВИРИН, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского процесса
и организации службы судебных приставов Всероссийского государственного университета юстиции,
академик РАЕН, Почетный адвокат России;
, доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник Российского государственного университета правосудия;
А. А. ФАТЬЯНОВ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственноправовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова;
Р.В. ШАГИЕВА, доктор юридических наук, профессор, первый проректор
Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева,
профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации;
В. В. ЯРКОВ, доктор юридических наук, профессор,
нотариус Свердловской областной нотариальной палаты.
ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Ф. БЕЛО, доктор юридических наук, член Парижской коллегии адвокатов (Франция);
А. В. БЕЛОКОНОВ, магистр юриспруденции, представитель Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов в Австрии, член Адвокатской палаты г. Вены
(Австрия);
В. Л. КВИНТ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансовой стратегии
Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, иностранный член РАН;
М. Ч. КОГАМОВ, доктор юридических наук, директор Научно-исследовательского института
уголовно-процессуальных исследований и противодействия коррупции Университета КАЗГЮУ,
профессор, заслуженный работник МВД Республики Казахстан (г. Астана, Казахстан);
Я. О. КУЧИНА, докторант Университета Макао, кандидат юридических наук, доцент (САР Макао, КНР);
И. МИЛИЧ, доктор юридических наук, ассистент Юридического факультета Новосадского университета
(г. Нови Сад, Республика Сербия);
Н. РУЙЕ, доктор юридических наук, профессор предпринимательского права Школы Бизнеса
Лозанны (Швейцария), партнер адвокатской конторы СвиссЛигал – SwissLegal Rouiller & Associes
Avocats (г. Лозанна, Женева и Фрибург);
А. ЧИРИЧ, доктор юридических наук, заведующий кафедрой торгового права,
арбитража внешнеторговых арбитражей, член Научного совета общественных наук
Министерства образования и науки Сербии, профессор Международного торгового права
на юридическом факультете Университета г. Ниш (Сербия).
А. Д. СЕЛЮКОВ
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Г.Б. МИРЗОЕВ. К вопросу о перспективе введения уголовной ответственности за саботаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ М.С. АЗАРОВ. Юридическая категория «вредная информация». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 А.П. АЛЬБОВ, Ю.Н. БОГДАНОВА. Теория и философия права: детерминанты духовно-нравственных ценностей современной юриспруденции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 В.И. АФАНАСЬЕВА, А.А. БОЧКОВ. Концептуально-методологические основы формально-содержательной характеристики власти. . . 23 М.А. ВАГАПОВ. Теоретико-исторические аспекты становления российской государственности: на примере Чеченской Республики. . . 30 В.В. ВАРМУНД. Реализация правосубъектности в цифровом обществе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ю.А. СВИРИН. Ревизионизм в понимании правовой доктрины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 А.И. СИДОРКИН. Комплектование органов охраны правопорядка на присоединенных к России территориях (из опыта Первой мировой войны). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 В.М. ШАМАРОВ. Государственный суверенитет и современные реалии: проблема соответствия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ А.П. АЛЬБОВ. Трансформация институтов гражданского общества и функций государства в условиях цифровизации: философско-правовой и публично-правовой аспекты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 С.В. БАРАБАНОВА, Л.Г. ЩУРИКОВА. Правовые основы повышения эффективности общественного контроля в сфере труда . . . . . . . 64 К.И. БРЫКИН. Обзор основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 А.Ю. ИЛЬИН, Н.Н. КОСАРЕНКО. Публично-правовое регулирование административно-правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 И.Ю. РОГАЛЕВА, А.В. ЛОСЯКОВ. Перспективы развития культурологической составляющей в профессиональной подготовке будущего педагога: правовой аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 А.А. ФАТЬЯНОВ. Проблемы использования технических понятий в качестве дефиниций в нормативных правовых актах на примере ряда терминов и определений криптографии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Л.А. БУКАЛЕРОВА, А.А. КОЛОСОВ. Противодействие коррупции в сфере закупок в России и ЮАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Л.А. БУКАЛЕРОВА, Н.В. КУЗНЕЦОВА, М.Й. МУРКШТИС. К вопросу учета особенностей личности преступника и его постпреступного поведения при назначении наказания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 А.В. КОНДРАШОВА, А.В. ОСТРОУШКО. Особенности участия защитника в досудебном производстве. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 А.И. МАЛЫГИН. Актуальность международно-правовых подходов к противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, приобретенных в результате организованной преступной деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 И.Н. МАРКИНА. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту эмбрионов за рубежом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Д.В. МИРОШНИЧЕНКО. Общественная опасность деяния как нормативная и реальная категория уголовного права. . . . . . . . . . . . . . 114 К.И. ПЕТУХОВ. Адвокат как субъект виктимологического предупреждения преступности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С.А. БУКАЛЕРОВ. Изнасилование как вид педофильного инцеста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 К.В. ГРИБКОВА. Становление теории источников права в отечественной правовой науке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 М.В. ЗАВИДОВА. Составы с признаком лица, имеющего судимость, как разновидность повторности преступлений. . . . . . . . . . . . . . . 135 С.Е. КАСЬЯНОВ. Легитимность как основа справедливости в уголовном праве. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 А.А. КИРИЛЛОВ. Вопросы уголовно-процессуальной формы применения информационных технологий при наложении ареста на имущество юридического лица, для его возможной конфискации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 И.О. КОПЕНКИН. Необходимость ужесточения уголовно-правовой ответственности защиты персональных данных в современных условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 И.А. СТРАХОВ. Подходы к типологии государства: ретроспектива и обновление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 В.И. ШЕРСТНЕВ. Проблемы защиты гражданских прав при расторжении договора аренды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ А.А. БОЧКОВ, В.И. АФАНАСЬЕВА. Государственая власть как существенная характеристика государства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Т.И. КЕЦБА. Размышления о том, как не надо реформировать Конституцию Республики Абхазия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Р.В. ШАГИЕВА. Фундаментальная юриспруденция и ее место в системе юридических наук: дискуссионные аспекты. . . . . . . . . . . . . . 176 КОРОТКО О КНИГАХ. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ В.В. КУЛАКОВ. РЕЦЕНЗИЯ на учебник «Потребительское право». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 А.В. ФИЛИППОВА. РЕЦЕНЗИЯ на учебное пособие «Основы российской государственности» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 М.Й. МУРКШТИС, Л.С. ЗЕНИНА. РЕЦЕНЗИЯ на монографию «Назначение наказаний, не связанных с изоляцией от общества: отечественный и зарубежный опыт» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ИНФОРМАЦИЯ В свете событий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Аннотация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
CONTENT CONTENT ACTUAL TOPIC G.B. MIRZOEV. On the issue of the introduction of criminal liability for sabotage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 THEORETICAL AND HISTORICAL LEGAL SCIENCES M.S. AZAROV. LEGAL CATEGORY "HARMFUL INFORMATION". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A.P. ALBOV, YU.N. BOGDANOVA. Theory and philosophy of law: determinants of spiritual and gravitational values of modern jurisprudence. . 14 V.I. AFANASIEVA, A.A. BARRELS. Conceptual and methodological foundations of the formal and content characteristics of power. . . . . . . . . . 23 M.A. VAGAPOV. Theoretical and historical aspects of the formation of Russian statehood: using the example of the Chechen Republic. . . . . . . 30 V.V. VARMUND. The realization of legal personality in a digital society. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Yu.A. SVIRIN. Revisionism in understanding legal doctrine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 A.I. SIDORKIN. Recruitment of law enforcement bodies in territories annexed to Russia (from the experience of the First World War). . . . . . . . . 47 V.M. SHAMAROV. State sovereignty and modern realities: the problem of compliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 PUBLIC LEGAL (STATE LEGAL) SCIENCES A.P. ALBOV. Transformation of civil society institutions and state functions in the context of digitalization: philosophical, legal and public legal aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 S.V. BARABANOVA, L.G. SHCHURIKOVA. Legal basis for increasing the efficiency of public control in the labor sphere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 K.I. BRYKIN. Overview of the main directions of development of the financial market of the Russian Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 A.YU. ILYIN, N.N. KOSARENKO. Public legal regulation of the administrative and legal status of foreign citizens in the Russian Federation. . . . 75 I.YU. ROGALEVA, A.V. LOSYAKOV. Prospects for the development of the cultural component in the professional training of a future teacher: legal aspect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 A.A. FATYANOV. Problems of using technical concepts as definitions in regulatory legal acts on the example of a number of terms and definitions of cryptography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 CRIMINAL LEGAL SCIENCES L.A. BUKALEROVA, A.A. KOLOSOV. Anticorruption in procurement in Russia and South Africa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 L.A. BUKALEROVA, N.V. KUZNETSOVA, M.Y. MURKSHTIS. The need to take into account the personality characteristics of the criminal and his post-criminal be-havior when assigning punishment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 A.V. KONDRASHOVA, A.V. OSTROUSHKO. Features of the participation of a defense lawyer in pretrial proceedings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 A.I. MALYGIN. The relevance of international legal approaches to combating the legalization (laundering) of criminal proceeds acquired as a result of organized criminal activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 I.N. MARKINA. Criminal legal counteraction to illicit trafficking of embryos abroad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 D.V. MIROSHNICHENKO. Public danger of an act as a normative and real category of criminal law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 K.I. PETUKHOV. A lawyer as a subject of victimological crime prevention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS S.A. BUKALEROV. Rape as a type of pedophilic incest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 K.V. GRIBKOVA. Formation of the theory of sources of law in domestic legal science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 M.V. ZAVIDOVA. Compositions with the sign of a person with a criminal record as a type of repetition of crimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 S.E. KASYANOV. Legitimacy as the basis of justice in criminal law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 A.A. KIRILLOV. Issues of the criminal procedural form of using information technologies when seizing the property of a legal entity for its possible confiscation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 I.O. KOPENKIN. The increasing of criminal legal responsibility for the protection of personal data in modern conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I.A. STRAKHOV. Approaches to state typology: retrospective and update. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 V. I. SHERSTNEV. Problems of protecting civil rights when terminating a lease agreement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 INVITATION TO THE DISCUSSION A.A. BOCHKOV, V.I. AFANASYEVA. State power as an essential characteristic of the state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 T.I. KESBA. Reflections on how not to reform the Constitution of the Republic of Abkhazia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 R.V. SHAGIEVA. Fundamental jurisprudence and its place in the system of legal sciences: debatable aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 BRIEFLY ABOUT THE BOOKS. CRITICISM AND DISCUSSIONS V.V. KULAKOV. REVIEW of the textbook "Consumer Law" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 V.V. KULAKOV. REVIEW of the textbook "Consumer Law" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 M.J. MURKSHTIS, L.S. ZENINA. REVIEW of the monograph "The imposition of punishments unrelated to isolation from society: domestic and foreign experience". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 INFORMATION In light of the events. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Abstract. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Впервые о необходимости возращения состава преступления об ответственности за саботаж в Уголовный кодекс РФ заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству О.Ф. Ковитиди по итогам заседания «круглого стола» о регулировании наказаний за преступления, совершенные в период военного времени и не связанные с боевой деятельностью Вооруженных сил. Данная инициатива входит в ряд уже реализованных мер, направленных на усиление уголовной ответственности за преступления в условиях специальной военной операции (далее – СВО). В частности, ужесточили наказания за дискредитацию участников СВО. Были уточнены понятия «государственной измены», «шпионажа», ужесточили санкции за наемничество, за воспрепятствование властям в исполнении их полномочий. Уголовный кодекс дополнен новой статьей об ответственности за мародерство. Необходимость введения уголовной ответственности за саботаж продиктована, по мнению сенатора, осуществлением саботажа населением освобожденных территорий. «Сегодня противник достаточно активно ведет работу по организации саботажа на новых территориях. Мы должны идти в ногу со временем и принимать соответствующие изменения в законодательство»1. При этом, сенатором предложен следующий «черновой» вариант диспозиции саботажа, который предлагается в новой ст. 281.4 УК РФ: «Умышленное действие, бездействие, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды лицом, исполняющим свои трудовые обязанности в период специальной военной операции, военного или чрезвычайного положения с целью скрытого противодействия государственной политики и управлению, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересов общества и государства». Состав преступления «саботаж» в нашей стране был впервые введен в Уголовном кодексе РСФСР в 1926 г. и действовал вплоть до 1958 г. Ответственность за контрреволюционный саботаж в последней редакции была предусмотрена ст. 58.14, которая определяла его как: «сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства Г.Б. МИРЗОЕВ К вопросу о введении уголовной ответственности за саботаж АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассмотрены основные предпосылки, история уголовной ответственности за саботаж; дан краткий исторический обзор советского законодательного опыта. Проведено сравнение советского и современного законодательства под углом зрения возможности в современных условиях осуществить криминализацию саботажа. В статье представлены общие суждения о возможной конструкции состава саботажа. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саботаж, уголовная ответственность, советский период, современное уголовное законодательство, обороноспособность, государственная власть. МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник юстиции России, Почетный адвокат России, Почетный работник в сфере образования РФ, президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, ректор Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ (e-mail: advocat@gra.ru). 1. Соколова М. В Совфеде предложили установить уголовную ответственность за саботаж // Парламентская газета. 17.03.2023. URL: https://www.pnp.ru/politics/v-sovfede-predlozhili-ustanovit-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-sabotazh.html?ysclid=lt1ht9gxuq199776787 (дата обращения: 25.02.2024.
Ученые труды Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева № 1 (72) 2024 и деятельности государственного аппарата». Слово «саботаж» происходит от французского «sabot» (ботинок). С помощью этого предмета, бастующие французские рабочие в период промышленного переворота XVIII– XIX вв. блокировали работу заводских станков, имитируя случайное его попадание в механизм. В дальнейшем, термин «саботаж» стал применяться для обозначения умышленной парализации какой-либо системы, путем ненадлежащего исполнения обязанностей не только на производстве, но и в иных сферах деятельности: финансовой, управленческой, научной, образовательной и т.д. Сегодня под «саботажем» принято понимать «злостное, преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости ее исполнения, скрытое противодействие исполнению, осуществлению чего-нибудь»2. Таким образом, саботаж связан с парализацией функционирования какой-либо системы без непосредственного причинения ей материального ущерба, как скрытое оружие неявного противника, находящегося внутри этой системы. Во время революции 1917 г. была образована ВЧК при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем, что стало реакцией на масштабную забастовку государственных служащих. Саботаж в то время был воспринят как контрреволюционное преступление, посягающее на достижения революции и власть большевиков. Как состав преступления саботаж был введен в 1927 г. Но наиболее остро ответственность за саботаж встала в 1941 г. В годы Великой Отечественной войны, в уголовном законодательстве произошли существенные изменения, направленные на борьбу с врагами народа. Так, приказом Народного комиссариата юстиции СССР от 29 июня 1941 г. № 106 «О перестройке работы судебных органов и органов юстиции на военный лад» ставилась задача «неослабной борьбы с преступниками и воспитания трудящихся в духе строжайшей дисциплины, которые составляют главную задачу суда и приобретают в военное время особое значение»3. По ст. 58.14 УК РСФСР к ответственности привлекали за срыв, либо фактическое невыполнение заданий ГКО и СНК по обеспечению Красной армии и флота, а также по укреплению военноэкономического потенциала СССР в военный период4. Следует отметить, что в историческом плане ответственность за саботаж не была новеллой только в СССР, В других странах этот состав традиционно рассматривался как посягательство на порядок управления и власти и в настоящее время уголовная ответственность за него предусмотрена в ряде законодательств иностранных государств (Германии, Франции, США, Китая). После 1958 г. саботаж как преступление утратил силу, что было обосновано распространенной идеологической предпосылкой о том, что в СССР данный вид преступления полностью ликвидирован. В настоящее время, в России ответственность за саботаж как самостоятельное преступление отсутствует. Но, вновь, в связи с событиями, связанными с СВО, актуализируется потребность в ней. Можно сказать, что речь о «возрождении» саботажа является закономерным в продолжении серии мер, направленных на усиление уголовной ответственности за злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1, 201.2, 201.3, 285.4, 285.5, 285.6 УК РФ). Все указанные статьи так или иначе направлены на усиление дисциплины, в связи с проведением СВО и поддержанием обороноспособности страны. Особое внимание при введении уголовной ответственности за саботаж следует обратить на конструкцию данного состава, с целью недопущения коллизий и противоречий в практике применения смежных составов преступлений. В основу его определения следует положить форму вины, способ совершения, цель, в связи с чем сформулировать следующие его признаки. Во-первых, особое значение в данном составе должен иметь объект преступления: им является государственная власть, обороноспособность и экономическая безопасность государства; во-вторых, значение должно придаваться умыслу и направленности умысла. Саботаж традиционно – это умышленное преступление, действия (бездействие) в рамках которого направлены на срыв производства или деятельности предприятий, связанных с обеспечением обороноспособности страны, либо на ослабление государственного аппарата управления; в-третьих, субъектом является лицо, достигшее 16-ти лет, на которое возложены определенные обязанности; в-четвертых, обязательно наличие специальной цели – ослабление власти и управления, деятельности государственного аппарата». Совершенно оправдано, на наш взгляд, ограничение действия названой статьи рамками периода вооруженного конфликта (СВО), 2. Васильева К. Что делать, если систематически нарушается трудовая дисциплина? // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2023. № 5. С. 73–82. 3. Приказ Наркомюста СССР от 29.06.1941 № 106 «О перестройке работы судебных органов и органов юстиции на военный лад» // www.: parvo gov. (дата обращения: 25.02.2024. 4. Демидов М.А. Борьба с саботажем как способ обеспечения развития промышленного производства СССР в период Великой Отечественной войны. Особенности квалификации // Вестник Нижегородского университета им. Н.А. Лобачевского. 2017. № 3. С. 135–136.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА во время которого особенно актуальным становится практика борьбы с вредительством, нарушающим обороноспособность страны изнутри. Вместе с тем, полагаем, что саботаж должен быть сформулирован как состав опасности, т.е. связан с реальной угрозой подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности страны. То есть саботаж создает угрозу безопасности и тем самым нарушает общественные отношения, связанные с обеспечением безопасности управления. Например, действия по саботажу могут совершаться на определенных предприятиях, носят систематический характер и подрывают производственный процесс посредством умышленного отказа работников выполнять надлежащим образом свои обязанности. Это те предприятия, которые связаны с критической инфраструктурой страны и являются стратегически важными, в том числе в сфере экономики и обороноспособности. Саботаж может быть осуществлен как путем действия, так и – бездействия. При этом лицо должно осознавать, что совершает посягательство (саботаж) на критически важном для страны предприятии (учреждении), чем создает угрозу безопасности государства. На наш взгляд, указание на мотив, в том числе в редакции, предложенной сенатором, в этом случае не требуется. Также можно подумать о создании такого состава в сфере коммерческой деятельности (коммерческий саботаж). Здесь можно встретить смежный с диверсией практический характер исполнения, например, сотрудники, ведомые обидой на начальство, могут оказать прямое воздействие на работу какого-то важного предприятия, в частности, удалив с рабочих компьютеров важные программные обеспечения и документацию. Квалифицирующим признаком саботажа является его совершение с использованием своих служебных или должностных полномочий. В данной статье нами представлена пока абстрактная схема, определяющая возможное направление по введению состава саботажа в наше уголовное законодательство. Однако следует помнить об истории введения любого состава, тем более ассоциированного с наследием большевизма. Поэтому эта мера (криминализация саботажа) требует тщательной научной экспертизы и проверки ее конституционности. БИБЛИОГРАФИЯ 1. Васильева К. Что делать, если систематически нарушается трудовая дисциплина? // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2023. № 5. С. 73–82. 2. Демидов М.А. Борьба с саботажем как способ обеспечения развития промышленного производства СССР в период Великой Отечественной войны. Особенности квалификации // Вестник Нижегородского университета им. Н.А. Лобачевского. 2017. № 3. С. 135–141. 3. Соколова М. В Совфеде предложили установить уголовную ответственность за саботаж // Парламентская газета. 2023. 17 марта. URL: https://www.pnp.ru/politics/v-sovfede-predlozhili-ustanovit-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-sabotazh. html?ysclid=lt1ht9gxuq199776787 (дата обращения: 25.02.2024). ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ БИБЛИОГРАФИИ 1. Vasil'eva K. Chto delat', esli sistematicheski narushaetsya trudovaya disciplina? // Kadrovaya sluzhba i upravlenie personalom predpriyatiya. 2023. № 5. S. 73–82. 2. Demidov M.A. Bor'ba s sabotazhem kak sposob obespecheniya razvitiya promyshlennogo proizvodstva SSSR v period Velikoj Otechestvennoj vojny. Osobennosti kvalifikacii // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.A. Lobachevskogo. 2017. № 3. S. 135–141. 3. Sokolova M. V Sovfede predlozhili ustanovit’ ugolovnuyu otvetstvennost’ za sabotazh // Parlamentskaya gazeta. 2023. 17 marta. URL: https://www.pnp.ru/politics/v-sovfede-predlozhili-ustanovit-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-sabotazh. html?ysclid=lt1ht9gxuq199776787 (data obrashcheniya: 25.02.2024).
Ученые труды Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева № 1 (72) 2024 1. Астафичев П.А. Законодательство о защите детей от приносящей им вред информации в механизме ограничений конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 2. С. 17–22. 2. Куликова С.А. Недостоверная информация как один из видов вредной информации: анализ правовой природы и систематизация // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2013. № 4-2. 3. Маурин В.С. Правовой анализ вредной информации в условиях информационного общества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 31 с. 4. Рыдченко К.Д. Административно-правовое обеспечение информационно-психологической безопасности органами внутренних дел Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2011. 27 с. 5. Симонова С.В. Обеспечение достоверности информации в сети Интернет: современные правовые основы и юридическая практика // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 11. С. 172–179. 6. Бородин К.В. Правовая защита несовершеннолетних от информации, приносящей вред их здоровью и развитию, распространяющейся в сети Интернет // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 68–74. М.С. АЗАРОВ Юридическая категория «вредная информация» АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматривается проблема так называемой «вредной информации» как юридической категории. В статье подчеркивается, что на сегодняшний день рассуждения о так называемой «вредной информации», чаще всего сводятся к информации, распространение которой в Российской Федерации с точки зрения закона запрещено. Вместе с тем, автор обоснованно отмечает, что существуют значительные массивы информации, которые хотя и не запрещены к распространению, тем не менее, могут оказывать отнюдь не благотворное воздействие на общество в целом, его настроения, отдельных его членов, в частности, на их индивидуальное сознание. Терминологическая неопределенность вокруг категории «вредная информация», отсутствие общепризнанного в научной среде понятия и определения этого понятия тормозят процессы, связанные с ее комплексным отражением в действующем российском законодательстве, и, соответственно, проблематизируют вопросы ее классификации, а также – возможного правового режима ее оборота. В статье анализируются определения так называемой «вредной информации», некогда сформулированные отечественными учеными в сфере публичного права, а также, на основе произведенного анализа, выделяются некоторые ее признаки, отражающие сущность явления. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вредная информация, вредоносная информация, информация ограниченного распространения, блоггеры, свобода слова, признаки вредной информации, деструктивный контент, негативный контент, запрещенная информация. АЗАРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовноправовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (e-mail: Azarov.MS@rea.ru). Одним из наиболее слабо разработанных в теоретическом отношении институтов комплексной отрасли информационного права является так называемый институт «вредной информации». Автор настоящей статьи сознательно заключил это словосочетание в кавычки, поскольку речь идет о явлении, которое в научных трудах находит самое разнообразное отражение. Так, например, П.А. Астафичев говорит о «вредоносной и негативной информации» 1; С.А. Куликова оперирует категориями «вредной и недостоверной информации»2; В.С. Маурин анализирует «вредную информацию»3; Е.И. Лукиной была предпринята попытка установить содержание понятия «вредоносной информации»; В.Н. Лопатиным было предложено определение «вредной информации»; А.А. Смирнов изучал проблемы идентификации «негативного контента»; К.Д. Рыдченко защитил авторское определение «вредоносной информации», а также рассуждает о «вредной и негативной информации»4; С.В. Симонова описывала отрицательные последствия распространения в сети Интернет «негативной информации»5; К.В. Бородин предпочитает вести речь о «вредной, неправомерной информации», а также об «информации ограниченного использования»6; И.Л. Бачило раскрывает сущность «вредной
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 7. Бородин К.В. Объекты и субъекты правового регулирования борьбы с распространением вредной информации в сети Интернет // Информационное право. 2016. № 2. С. 13–17. 8. Копылов В.А. Информационное право. М., 2002. 512 с. 9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // www.: pravo.gov. ru (дата обращения: 29.02.2024). 10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторжение_России_на_Украину_(с_2022) (дата обращения: 14.03.2024). 11. http://www.kremlin.ru/events/president/news/67843. информации»7; В.А. Копылов рассматривал воздействие «вредной и опасной информации»8. Построение эффективного и безопасного государства, формирование развитого гражданского общества базируются на человеческой активности, опирающейся на работу человеческого сознания. Человек живет в условиях состоявшихся последствий информационного взрыва (из года в год наблюдается кратный прирост информации в мире), поэтому уже довольно давно он вынужден как-то ориентироваться в имеющих место информационных потоках, отсеивать ненужную информацию. Общественное сознание, в том числе, политическое сознание, подвержено воздействию окружающих людей информационных потоков. Порой они не осознают, насколько их поведение предопределено существующим политическим и прочим контентом, генерируемым в разнообразных социальных сетях, на страницах сети Интернет. На сегодняшний день, рассуждения о так называемой «вредной информации» чаще всего сводятся к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено согласно ст. 15.1 базового информационного закона страны9. Закон включает в себя механизмы воздействия на распространителей подобного контента. Но, вместе с тем, существуют значительные массивы информации (контента), которые хотя и не запрещены к распространению с точки зрения действующего законодательства, тем не менее, как видится, могут оказывать разрушительное (подтачивающее) воздействие на общество в целом и на отдельных его членов, в частности, на их индивидуальное сознание. Можно привести ряд примеров. В отсутствие популярной отечественной сетевой энциклопедии, немалое число граждан Российской Федерации пользуются в целях поиска информации сайтом Википедия. Известные события двухлетней давности обозначены на данном ресурсе как «вторжение» (для жителей России это слово несет определенно отрицательную коннотацию)10. Невольно возникают прямые ассоциации с вторжением нацистской Германии в СССР. Однако, эти события принципиально отличаются, а само описание проводимой операции не просто носит тенденциозный, пропагандистский характер, но и напрямую опровергает цели ее проведения, озвученные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации11. «Свободная» энциклопедия «Википедия», включающая в себя сотни и тысячи статей, осуждающих действия России на международном треке, доступна и по сей день из любой точки нашей страны. Другим примером является освещение так называемыми блоггерами (не СМИ), а иногда и военблоггерами, последствий преступных атак, проявившихся на территории Российской Федерации, что, с одной стороны, информирует население соответствующих территорий о произошедшем, а, с другой стороны, предоставляет в руки геополитических соперников России, ценную информацию, свидетельствующую об успешности их атак. Впоследствии, видеоконтент, отснятый российскими гражданами, используется недругами России в целях ведения информационной войны. В этой связи важно найти и научно обосновать возможный баланс между свободой распространения информации и свободой слова, закрепленной в Конституции Российской Федерации, и вынужденными ограничениями на распространение информации, способной нанести вред государству, обществу, отдельным гражданам страны. Особая геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг Российской Федерации, комплекс задач, которые отныне вынуждено решать государство, частичная мобилизация и ее последствия, ставят перед исследователями новый комплекс вопросов, часть из которых посвящена ограничению доступа к иным видам информации, ныне не запрещенным к распространению на территории Российской Федерации. Например, возникает вопрос, имеет ли смысл в условиях выполнения Вооруженными Силами Российской Федерации задач по денацификации и демилитаризации, относить к категории «вредной информации» информационные сообщения, сделанные из-за рубежа отдельными представителями отечественного политического спектра (часть из которых признаны иностранными агентами), в которых ставятся под сомнение компетентность руководителей страны и высокопоставленных представителей оборонного ведомства, в целом цивилизованность и человечность народов Российской Федерации? Имеет ли смысл, в условиях выполнения Вооруженными Силами Российской Федерации священного долга, относить к категории «вредной» и ограничивать доступ населения Российской Федерации к информации, распространяемой сбежавшими из страны
Ученые труды Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б. Мирзоева № 1 (72) 2024 12. https://v-dal.ru/. 13. Рыдченко К.Д. Генезис института правовой защиты детей от вредоносной информации // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. № 3. С. 15–19. 14. Куликова С.А. Недостоверная информация как один из видов вредной информации: анализ правовой природы и систематизация // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2013. № 4-2. 15. Смирнов А.А. Негативный контент: проблемы идентификации в контексте правового регулирования // Информационное право. 2015. № 2. С. 18–25. медийными личностями, культивирующими в своих видеороликах разврат и пошлость, а также нескрываемое презрение к российскому народу и российским законам? Предполагает ли свобода слова, закрепленная конституционно, необходимость смиренного нахождения российского общества под воздействием подобного рода информации? К сожалению, прикрываясь отсылкой к конституционным положениям, не в полной мере нашедшим свое дальнейшее развитие в действующих федеральных законах и подзаконных нормативных правовых актах, отдельными субъектами наносятся довольно чувствительные удары по безопасности страны и общества. Терминологическая неопределенность, отсутствие общепризнанного в научной среде понятия и определения понятия так называемой «вредной информации», тормозят процессы, связанные с ее комплексным отражением в действующем российском законодательстве, и, соответственно, проблематизируют вопросы ее классификации. В аспекте приведенных рассуждений становится очевидной потребность в анализе определений так называемой «вредной информации», некогда сформулированных отечественными учеными в сфере публичного права, а также в выделении некоторых признаков «вредной информации», передающих ее сущность. Согласно «Словарю В. Даля онлайн», «вредить» – повреждать, причинять зло, ущерб здоровью, обиду личности, убыток собственности12. Согласно этому словарю, наиболее близкие по смыслу слова – «вредительный», «вредоносный» или «вредотворный». В соответствии с этим рассмотрим основные подходы ученых к определению понятия «вредная информация». К.Д. Рыдченко предлагает понимать под «вредоносной информацией» сведения, содержащие качества недостоверности, непристойности или деструктивности, негативное воздействие которых на индивидуальную психику и общественное сознание обусловливает необходимость ограничения или запрета их оборота в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства13. Представляется, что далеко не все виды «вредоносной» в своей основе информации являются недостоверными и/ или непристойными (например, некоторые виды информации, перечисленные в начале настоящей статьи). С качеством достоверности/недостоверности и того сложнее. Абсолютно недостоверной будет являться заведомо ложная информация, когда субъект, распространяющий подобную информацию, изначально отдает себе отчет в том, что он распространяет информацию, не соответствующую действительности. Однако, как быть в том случае, если под видом достоверной информации распространяется непроверенная информация, то есть слухи? Или, когда лицо распространяет под видом фактов информацию, которая, собственно говоря, и фактами не является, а является всего лишь его интерпретацией имевших место событий? Важно при этом не упускать из виду, что достоверными или недостоверными могут быть только факты (их можно проверить), а не высказанная точка зрения. Возможен и другой вариант: когда лицо предъявляет обществу некую «фактологию», в то время как сам опирается на непроверенную информацию. Информационное законодательство не содержит норм о том, насколько глубоко и тщательно субъект, работающий с информацией, а затем ее распространяющий, должен проверять ее на достоверность. Тем не менее, обращаясь к качеству достоверности, согласимся с мнением С.А. Куликовой о том, что правовой механизм противодействия распространению вредной информации должен включать в себя не только прекращение правонарушения и привлечение к ответственности, но и распространение (доведение до заинтересованных субъектов) достоверной информации14. Автор определения пишет о негативном воздействии вредоносной информации как о свершившемся факте. Вместе с тем, ее негативное воздействие ситуативно, зависит от воспринимающего субъекта: вредная по своей сути информация может не нанести никакого вреда, допустим, политологу, изучающему грани противостояния коллективного Запада и Российской Федерации (те или иные проявления информационной войны), но в тоже самое время может нанести серьезный психологический урон неподготовленному зрителю, воспринимающему многие умело сделанные ролики про Россию, распространяемые в сети Интернет, за чистую монету. А.А. Смирнов вместо использования категории «вредная информация» предпочитает категорию «негативный контент». При этом под негативным контентом он понимает информацию, оказывающую деструктивное воздействие на психику человека и (или) общественное сознание15. Он пишет о выделении и обо