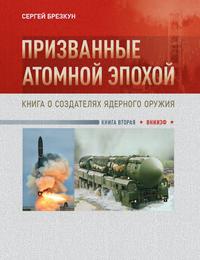Призванные атомной эпохой. Книга о создателях ядерного оружия: Книга 2. ВНИИЭФ. Через расцвет оружейной работы к эпохе паритета
Покупка
Новинка
Автор:
Брезкун Сергей Тарасович
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 305
Дополнительно
Вид издания:
Научно-популярная литература
Уровень образования:
Дополнительное образование взрослых
ISBN: 978-5-9515-0553-8
Артикул: 853160.01.99
Эта книга завершает документальную дилогию о советских ядерных оружейниках. В первой книге - «КБ-11» - рассказывалось о зарождении старейшего центра разработки ядерного оружия, который стал возникать с 1946 года в заповедных лесах на северо-западе Мордовской АССР на границе с Горьковской областью, и о его развитии с 1940-х по 1960-е годы. С 1967 года КБ-11 было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ). В первой книге дилогии на фоне истории развития КБ-11 до «эпохи ВНИИЭФ» прослеживалось формирование в КБ-11 и выросшем при нём современном городе самобытной «культуры КБ-11/ВНИИЭФ». Во второй книге речь об уже зрелом коллективе разработчиков оружия, о жизни и работе новых поколений оружейников, о зрелой ядерной оружейной культуре, определявшей профессиональное и человеческое бытие крупнейшего научно-инженерного «комбината», в который превратилось былое КБ-11. Вторая книга охватывает период с 1960-х и до начала 1990-х годов, когда был достигнут пик оружейной работы, а в итоге - обеспечен ракетно-ядерный паритет с Соединёнными Штатами Америки. Освещается также сотрудничество ядерщиков с «внешними» коллегами по оружейной кооперации. Основное внимание при этом, как и в первой книге, уделяется не непосредственно научно-техническому аспекту ядерных оружейных работ, а человеческому измерению этих работ.
Для широкого круга читателей.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 14.03.01: Ядерная энергетика и теплофизика
- ВО - Специалитет
- 14.05.02: Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Сергей Брезкун ПРИЗВАННЫЕ АТОМНОЙ ЭПОХОЙ Книга о создателях ядерного оружия Книга вторая ВНИИЭФ Через расцвет оружейной работы к эпохе паритета Саров 2024
УДК 623.454.8(09)
ББК 31.4
Б 87
DOI: 10.53403/9785951505538
Брезкун С. Т.
Б 87 Призванные атомной эпохой. Книга о создателях ядерного оружия: в 2-х книгах. –
Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2024.
ISBN 978-5-9515-0542-2
Книга 2. ВНИИЭФ. Через расцвет оружейной работы к эпохе паритета. – 304 с. – ил.
ISBN 978-5-9515-0553-8
Эта книга завершает документальную дилогию о советских ядерных оружейниках. В первой книге –
«КБ-11» – рассказывалось о зарождении старейшего центра разработки ядерного оружия, который стал
возникать с 1946 года в заповедных лесах на северо-западе Мордовской АССР на границе с Горьковской областью, и о его развитии с 1940-х по 1960-е годы.
С 1967 года КБ-11 было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ). В первой книге дилогии на фоне истории развития КБ-11 до «эпохи
ВНИИЭФ» прослеживалось формирование в КБ-11 и выросшем при нём современном городе самобытной «культуры КБ-11/ВНИИЭФ». Во второй книге речь об уже зрелом коллективе разработчиков оружия,
о жизни и работе новых поколений оружейников, о зрелой ядерной оружейной культуре, определявшей
профессиональное и человеческое бытие крупнейшего научно-инженерного «комбината», в который
превратилось былое КБ-11.
Вторая книга охватывает период с 1960-х и до начала 1990-х годов, когда был достигнут пик оружейной работы, а в итоге – обеспечен ракетно-ядерный паритет с Соединёнными Штатами Америки.
Освещается также сотрудничество ядерщиков с «внешними» коллегами по оружейной кооперации. Основное внимание при этом, как и в первой книге, уделяется не непосредственно научно-техническому
аспекту ядерных оружейных работ, а человеческому измерению этих работ.
Для широкого круга читателей.
УДК 623.454.8(09)
ББК 31.4
Автор выражает благодарность начальнику ИПЦ А. В. Чувиковскому, а также В. В. Ельцову и Т. Л. Матвиец
за организационное обеспечение издания книги, и отдельно: М. С. Мещеряковой за ее многотрудные усилия по верстке, Т. В. Андреевой за прекрасные обложки и Н. П. Гомоновой, чья тщательность
в редактировании текста способствовала его улучшению и исключению множества мелких недочетов,
что имело отнюдь не малое значение для конечного результата.
Фотоматериалы – из архивов Музея ядерного оружия и фотостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ, городского музея
г. Сарова, городского парка культуры и отдыха им. П. М. Зернова и открытых источников сети Интернет.
Редакционная коллегия:
О. А. Москалев (председатель), Б. П. Барканов (заместитель председателя), А. И. Балуев, В. И. Ефремов, В. П. Гордовский, Е. И. Степашин, А. А. Агапов, Н. А. Илюхин.
© С. Т. Брезкун, 2024
© ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2024
ISBN 978-5-9515-0542-2
ISBN 978-5-9515-0553-8 (книга вторая)
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГА ВТОРАЯ ВНИИЭФ 4 ПРЕДИСЛОВИЕ ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 7 Глава 1 НАЧАЛО ЭПОХИ ВНИИЭФ 50 Глава 2 НЕМНОГО О «ЕПАРХИИ» КОЧАРЯНЦА 59 Глава 3 ОПЫТНОСТЬ МОЖЕТ, А МОЛОДОСТЬ ЗНАЕТ 89 Глава 4 ЭТЮДЫ ОРУЖЕЙНОЙ ЖИЗНИ: КОНЕЦ 1970-х... 111 Глава 5 ЕЩЁ РАЗ О КОНСТРУКТОРАХ ЗАРЯДОВ, И – НЕ ТОЛЬКО О НИХ 139 Глава 6 СМЕЖНИКИ И «ЗАКАЗЧИК»… 181 Глава 7 ОТ ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ К ЯДЕРНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 198 Глава 8 НА «ИЗЛЁТЕ» ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОХИ 242 Глава 9 ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ? 267 Послесловие 299 Основная библиография (к книгам 1-й и 2-й)
Предисловие ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ратории № 2» (с 1949 года – Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР). И именно здесь с конца 1940-х годов сходились все усилия работников новой для СССР – атомной – отрасли. В немалой мере это же можно сказать и об усилиях работников смежных отраслей, так или иначе причастных к Атомному проекту. Объяснялось центральное положение «атомного» КБ № 11 тем, что в его стенах создавалась советская атомная бомба – «изделие 501» с зарядом РДС-1. Напомню, что 29 августа 1949 года РДС-1 был успешно испытан в Казахстане под Семипалатинском на «Учебном полигоне № 2» Министерства Вооружённых Сил СССР. От этой точки ведёт отсчёт процесс слома советскими оружейниками агрессивной атомной монополии США и нейтраГород оружейников в начале 1990-х годов ЭТА КНИГА завершает документальную дилогию о советских ядерных оружейниках. В первой книге – «КБ-11» – рассказывалось о зарождении КБ-11 – того центра разработки ядерного оружия, который стал возникать с 1946 года в заповедных лесах на северо-западе Мордовской АССР на границе с Горьковской областью, и о его развитии с 1940-х по 1960-е годы. Вторая книга – «ВНИИЭФ» – охватывает период с 1960-х до начала 1990-х годов, когда был достигнут пик оружейной работы, а в итоге – обеспечен ракетно-ядерный паритет с Соединёнными Штатами Америки. Основное внимание при этом, как и в первой книге, уделяется не непосредственно научно-техническому аспекту ядерных оружейных работ, а человеческому измерению этих работ, развитию особой социальной культуры – «культуры КБ-11/ВНИИЭФ» и, более широко – культуры Города, вызванного к жизни советским Атомным проектом – города Кремлёва. История головной отечественной ядерной оружейной организации стала одной из впечатляющих, хотя десятилетиями и скрытых от посторонних глаз и ушей, страниц новейшей истории Российского государства. Полное наименование секретной организации при её образовании в 1946 году выглядело так: «Конструкторское бюро № 11 при Лабо
Продолжая дело первопроходцев лизации угрозы внешней агрессии против России. Работы первостепенной государственной важности стали для кадровых сотрудников КБ-11 повседневностью и лишь расширялись. За десятилетия, прошедшие с момента образования КБ-11, изменилось многое. На месте глухого рабочего поселка Сарова вырос современный город. Сегодня численность его населения приближается к 100 тысячам человек. В 1954 году он получил гордое, но, увы, закрытое имя «Кремлёв», одно время в открытой переписке именовался «Арзамас-75», позднее – «Арзамас-16», а ныне носит наименование «Саров». Изменилось и название расположенного здесь ядерного оружейного центра. С 1946 по 1967 год он именовался Конструкторским бюро № 11 (КБ-11), с 1967 по 1992 год – Всесоюзным научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (ВНИИЭФ), а с 1992 года стал Российским федеральным ядерным центром – Всероссийским НИИ экспериментальной физики. Но, как и в момент основания ядерного центра, основными его задачами и сутью деятельности являются обеспечение эффективности ядерного арсенала России и его совершенствование. программировало глобальную стабильность. И вполне логично и естественно, что в атомном Кремлёве была городская лестница «МИРУ – МИР!», названная так по лозунгу, выложенному крупными белыми буквами по зелёному газону между двумя рядами её ступеней. Пожалуй, не мешает отметить, что слова «страх» и «сдержанность» выше употреблены для характеристики состояния преимущественно западного общества. На Западе стали нагнетать массовую «ядерную» паранойю, густо сдобрённую русофобией, с момента первых же успехов СССР в деле разработки ракетно-ядерных во- оружений. В Советском Союзе, хотя и возникло понятие «гражданская оборона», «ядерных» истерик никто не закатывал в «верхах», а поэтому их не было и в массах советских граждан. Так что сдержанность в ядерной сфере приходила на смену истеричному страху именно на Западе – в СССР к проблеме всегда относились намного взвешенней и ответственней, чем по ту сторону «железного занавеса». Но приходила именно сдержанность, что для дела мира в мире имело значение, конечно, положительное. Приведём факт из давней истории ядерной эпохи… Даже такой ненавистник Советского Союза, как госсекретарь США Джон Фостер Даллес, 31 марта 1953 года при обсуждении в Совете национальной безопасности вопросов общей политики США признавал: «…Возросшая разрушительная мощь ядерного оружия и наступление состояния атомного паритета создают ситуацию, при которой общая война угрожала бы уничтожением западной цивилизации и советского режима, и в которой невозможно было бы добиться национальных целей посредством войны, даже если бы была достигнута военная победа. В результате могла бы сложиться ситуация взаимного сдерживания…». С КОНЦА 1960-х и до конца 1980-х годов коллектив ВНИИЭФ накопил огромный опыт разработки ядерных и термоядерных зарядов. И по мере того, как трудом первопроходцев и их учеников, трудом всего советского народа формировался «ядерный пат» с Соединёнными Штатами Америки, страх 1950-х и начала 1960-х годов перед угрозой ядерной войны постепенно трансформировался в сдержанность 1970-х годов. Поскольку сдержанность – это антоним опрометчивости, в политической жизни мира стали появляться ранее совершенно несвойственные ей черты: война более не рассматривалась великими державами как нечто способное решить их взаимные прямые или непрямые конфликты. Впервые в мировой истории пушки перестали быть «ultima ratio rex» (последним доводом королей). Причиной же этого стало наличие у Советского Союза развитых ракетно-ядерных вооружений. Именно русское ядерное оружие Это заявление было обнародовано в 1983 году, и постфактум ясно, что в 1953 году на подобное признание Даллеса подвигнуло не усиление мощи ядерного оружия Америки, а исключительно наш успех в испытании первых наших атомных бомб. Даже скромный «ядерный» про
Предисловие рыв СССР заставил «ястреба» Даллеса ввести в свой словарь – пусть и на закрытом совещании – понятие «паритета», хотя до подлинного паритета Советскому Союзу было ещё далеко. За годы, прошедшие с момента заявления Даллеса, в США не раз предпринимались попытки изгнать слово «паритет» из военно-политического лексикона Америки и заменить его словами «подавляющее превосходство». И каждый раз работа советских оружейников сводила такие попытки к нулевому итогу. Так или иначе, в КБ-11, а затем во ВНИИЭФ, сознавали эту свою прямую причастность к реалистическому развороту умов на Западе. Таким фактом можно было лишь гордиться, и им, конечно же, гордились. Но, так сказать, «про себя»… лективе разработчиков оружия, о жизни и работе новых поколений оружейников, и о зрелой ядерной оружейной культуре, определявшей профессиональное и человеческое бытие крупнейшего научно-инженерного «комбината», в который превратилось былое КБ-11. Этот «комбинат» получил с 1967 года закрытое наименование «Предприятие почтовый ящик (п/я) Г-4665», в открытом варианте именовался «ВНИИЭФ», но, как и его «прародитель» КБ-11, по-прежнему имел главным результатом своей работы мир и безопасность Отечества. В «эру ВНИИЭФ» сформировался уверенный ракетно-ядерный паритет с Соединёнными Штатами Америки, и вклад ВНИИЭФ в достижение такого положения вещей был, естественно, важнейшим наряду с коллегами из второго ядерного центра на Урале и коллегами – разработчиками носителей ядерного оружия. Как и «эра КБ-11», её продолжение – «эра ВНИИЭФ» – вписала в историю ядерной оружейной работы в СССР немало новых страниц. Однако к началу 1990-х годов история старейшего ядерного оружейного центра России приобрела и нередко драматический характер. Впрочем, обо всём по порядку… В 1967 ГОДУ КБ-11 было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Как уже было сказано в первой книге дилогии, на фоне истории развития КБ-11 «до ВНИИЭФ» прослеживалось возникновение в КБ-11 и городе при нём самобытной культуры и её перерастание в «культуру ВНИИЭФ». Во второй книге, предлагаемой вниманию читателя, речь – об уже зрелом кол
Глава 1 НАЧАЛО ЭПОХИ ВНИИЭФ мышленной комиссии при Совете Министров СССР. И, как вспоминал в интервью журналистке Галине Окутиной в 1990-е годы один из инициаторов подобных работ ещё в КБ-11 лауреат Ленинской премии теоретик Владимир Николаевич Родигин (1921–2004), это произошло тогда, когда в стране было накоплено уже немало зарядов. «Естественно, – рассказывал Владимир Николаевич, – возник вопрос, а какое же оружие для нас сейчас выгоднее с точки зрения эффективности его применения и имевшихся у нас технических возможностей и экономических ресурсов. Образно говоря, надо было решать, что лучше – "недоесть или недоспать"? Мы, ядерщики, продолжали работать по указаниям руководства по принципу достижения цели любой ценой. А в США при разработке ядерного оружия уже стали считать деньги и проводить специальные исследования военных операций…». Хотя и не сразу, но стали считать деньги и у нас. Оружейная работа развивалась теперь на базе учёта и анализа сразу многих факторов. Не стоял в стороне от этого дела, само собой разумеется, и первый заместитель Главного конструктора Всесоюзного НИИ экспериментальной физики Давид Абрамович Фишман – признанный лидер конструкторов-зарядчиков КБ-11 и ВНИИЭФ. Некоторые его тогдашние «открытые» размышления «по теме» сохранились, и, забегая вперёд, можно сообщить, что в середине 1980-х годов Давид Абрамович на листе формата А4 записывал: «1. О перспективах освоения новой номенклатуры продукции, росте производственной программы (с обоснованием) на период до 2000 года. ВТОРАЯ половина 1940-х годов стала для «атомного» КБ-11 временем создания и коллектива, задачей которого была разработка первой советской атомной бомбы, и создания самой бомбы. И оба процесса шли параллельно. В ходе работ выстраивались новые отношения учёных и конструкторов, и вообще взаимоотношения всех, кто был приобщён к решению основной задачи. Возникали новые технологии, новые методы разработки и отработки «изделий»… Отдельно формировался «куст» внешних полигонных испытаний. 1950-е годы стали периодом, так сказать, «бури и натиска» – агрессивность Запада и США и широкие ядерные усилия США вынуждали нас к адекватному вызовам ответу. Для оружейников – жителей первого «атомного» города страны, это означало работу, по напряжению сопоставимую, порой, со временами создания РДС-1. Наступили 1960-е годы… В октябре 1961 года была испытана супербомба АН602, потрясшая мир, но одновременно в немалой мере отрезвившая «ястребов» Запада. В поисках выхода и с целью обретения упускаемого превосходства, Соединённые Штаты перешли к постановке на стратегические ракетные носители разделяющихся головных частей с малогабаритными зарядами. И Советскому Союзу опять приходилось предпринимать адекватные меры, а это порождало новые проблемы и ставило новые задачи – как перед ракетчиками, так и зарядчиками. И всё так же в трудах и заботах проходили для оружейников КБ-11 шестидесятые годы... Примерно с 1964 года в «технологическую цепь» разработки нового оружия вошли так называемые тактико-технико-экономические исследования. Сам термин предложил академик Александр Николаевич Щукин, член Военно-про
Глава 1 2. О строительстве, реконструкции и техническом перевооружении отдельных объектов основного назначения на период до 2000 года». За приведенными выше строками стоял опыт предыдущих лет, заново осмысленный. Но это же были и крупные перспективные задачи всех оружейников: теоретиков, конструкторов-зарядчиков и испытателей Научно-исследовательского испытательного комплекса КБ-1, разработчиков боевых частей из КБ-2 и работников опытного завода ВНИИЭФ. А вот что Давид Абрамович написал – в рамках возможного на неучтённом листике, подвернувшемся под руку, – об облике перспективного оружия: Пусть читателя, профессионально не связанного с проблемами ядерного оружия, не смущают стиль заметок Д. А. Фишмана и выше заявленные подходы В. Н. Родигина… Человеку со стороны они могут показаться чуть ли не зловещими. Ведь за всеми этими «…с точки зрения эффективности применения», «стратегия и тактика выполнения задачи», «тактико-технико-экономическая эффективность решения задачи» стоит «оружие Апокалипсиса» – как часто называют ядерное оружие на Западе. Но нет никаких оснований думать о теоретике Владимире Родигине – бывшем фронтовике, о конструкторе ядерных зарядов Давиде Фишмане – участнике военной «танковой» эпопеи на Урале, как о неких мрачных «ястребах» и чуть ли не человеконенавистниках и бессердечных «профи», которым нет дела до того, что реальное «выполнение задачи» – это ядерный конфликт. Всё обстояло совершенно иначе – с точностью «до наоборот». Выдающиеся оружейники-ядерщики Игорь Васильевич Курчатов, Юлий Борисович Харитон, Кирилл Иванович Щёлкин, Евгений Аркадьевич Негин, Самвел Григорьевич Кочарянц, Аркадий Адамович Бриш, Евгений Иванович Забабахин, Давид Абрамович Фишман и их соратники и товарищи по разработке оружия никогда не были носителями психологии поджигателей потенциальной войны. Они не были жрецами разрушения уже потому, что вместе с советским народом вынесли на своих плечах тяжелейшую разрушительную войну. Напротив – они были по своей психологии самыми мирными людьми. Разрабатывая ядерное оружие, они стремились к одному – к прочно, надёжно обеспеченному мирному будущему их Родины и всего мира. В 1993 году в № 3 журнала «Природа» член-корреспондент АН СССР М. Г. Мещеряков, ученик и сотрудник академика Хлопина, написал: «Как нам представляются изделия образца до 2000 года: – унифицированными для большого класса носителей; – спроектированными с учётом требований научно обоснованной стратегии и тактики выполнения задачи; – с учётом тактико-технико-экономической эффективности решения задачи, увязанной с общим балансом расхода активных материалов; – с высокой надёжностью и более высокими эксплуатационными характеристиками; – может быть – с расширенными гарантийными сроками ряда узлов; – с высокой технологичностью, с широким применением современных методов обработки, с min объемом механической обработки и особенно ручного труда и подгонки; – с коренным улучшением методов контроля и особенно внедрением неразрушающих методов контроля, с заметным улучшением КИМ`а (коэффициента использования материала, – С.Б.)». «Я храню воспоминания о том солнечном августовском дне 1945 года, когда в газетах появилось сообщение об атомной бомбардировке Хиросимы. В тот день Хлопин собрал у себя в институте (Радиевый институт АН, – С.Б.) сотрудников, участвовавших Это – мысли 1980-х годов, однако они, подчеркнём это ещё раз, возникли как результат осмысления опыта, накопленного в 1970-е и более ранние 1960-е годы. И тут, пожалуй, надо пояснить – в связи со сказанным ранее – вот что...
Начало эпохи ВНИИЭФ в разработке "уранового проекта", и, пристально вглядываясь из-под очков в каждого, чётко сказал: "У России хотят отнять плоды победы. Нам надо удесятерить темпы наших работ"…». И далее: «В то время в воздухе, – продолжала Нина Даниловна, – носилась эта идея, сделать нам свою, советскую атомную бомбу. Не для того, чтобы на кого-нибудь напасть. Нет! Наша бомба была бы надёжной защитой от нападения других. Страшная война была ещё жива в нашей памяти, и люди хотели мира, только мира, любой ценой!» «Стремление как можно скорее создать атомное оружие овладело всем советским обществом…». К этому же – к миру для мира – стремятся и нынешние поколения ядерных оружейников России. Но при этом оружейники понимали и понимают, что «Добро должно быть с кулаками»! Так было тогда, и так сохраняется по сей день. Так оно и было… Скромная, однако, имеющая право называться соратницей великих оружейников, техник-экспериментатор Нина Даниловна Юрьева (Серёгина), чьи воспоминания цитировались в первой книге дилогии, начала работать в лаборатории будущего Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премии Виктора Александровича Давиденко в начале 1948 года. Она приехала на «Объект» по путёвке ЦК ВЛКСМ из Тулы, и через много лет написала о показательном факте… Когда со своей подругой, тоже отобранной для работы в КБ-11, после собеседования в ЦК ВЛКСМ Нина вернулась из Москвы в Тулу, их «встретили на работе как героев», «хвалили, поздравляли и даже предсказывали», что делать им придётся «не иначе как атомную бомбу». СОВЕТСКОЕ ядерное оружие с самого начала его создания рассматривалось в СССР на всех уровнях и во всех слоях общества не как средство ведения войны, а как средство сохранения мира. Правда, на Западе, а в последние тридцать лет и в России, на этот счёт нередко высказывались и высказываются прямо противоположные мнения, вплоть до того, что Сталин был якобы «архибандитом», и «не задумываясь» применил бы атомное оружие, «если бы считал это нужным для достижения своих людоедских (?!, – С.Б.) целей». Тот факт, что СССР Сталина много раз публично предлагал запретить атомное оружие и до, и после испытания РДС-1 в 1949 году, при этом «забывается». Как «забывается» и то, что Соединённые Штаты Америки, хотя и превращали Корею в пустыню «обычными» бомбами, не применили там ядерное оружие только потому, что СССР Сталина тоже имел атомные бомбы. И в США опасались не столько негативной реакции «мирового сообщества» – США и Запад Первые увесистые русские «кулаки Добра» ныне представлены в экспозиции Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
Глава 1 штабов, и на страницах военно-теоретических трудов, не говоря уже о страницах массовых журналов и газет. Сталина не стало в марте 1953 года. Но лишь через три года – в марте 1956-го – было принято некое Постановление ЦК КПСС и СМ СССР. По нему предусматривалась передача из Министерства среднего машиностроения Министерству обороны СССР «сборочных бригад, изделий РДС и технологического оборудования, находящихся на РТБ», а также «части специалистов из системы Главного управления комплектации Министерства среднего машиностроения, связанных с деятельностью РТБ». Сборочные бригады МСМ были преобразованы в военно-сборочные бригады Министерства обороны СССР. Первых непосредственно военных специалистов по эксплуатации ядерного оружия готовили в переходное время гражданские оружейники и военные из состава военно-сборочных бригад, ещё во второй половине 1940-х годов переведенные в ПГУ. Тогда даже бытовало шутливое выражение: «прошёл академию Дубицкого». (О кадровом военном инженере Валентине Викентьевиче Дубицком, прибывшем в КБ-11 в 1949 году, говорилось в первой книге, и будет сказано подробнее в главе 6-й «Смежники и "заказчик"»). воевали в Корее под флагом ООН – сколько адекватного советского ответа. К слову… В СССР Сталина атомный арсенал не был предоставлен в прямое распоряжение военных – в отличие от США, а находился в хранилищах ПГУ, в том числе – в Сарове, и представлял собой военно-политический резерв политического руководства на крайний случай ядерной агрессии США. В августе 1951 года было принято решение о создании четырёх войсковых хранилищ – ремонтно-технических баз (РТБ) – в Северном Крыму, на Западной Украине, в Белоруссии и на северо-западе РСФСР. Однако, хотя командирами этих особых воинских частей назначались старшие офицеры Советской Армии, обслуживали РТБ гражданские сборочные бригады ПГУ, куда входили и военные инженеры, откомандированные в ПГУ. Иными словами, в первые советские «атомные» годы непосредственно армию не готовили к использованию атомного оружия – в случае угрозы войны и наступления особого периода обеспечивать применение атомных бомб пришлось бы специалистам ПГУ во взаимодействии с войсковыми структурами. А это лишний раз косвенно подтверждает и без того, вообще-то, бесспорный для объективных историков тезис об отсутствии у Сталина агрессивных «атомных» планов. В отличие от США, готовивших свою стратегическую авиацию к атомному удару по СССР. Можно привести и ещё один малоизвестный факт: лишь в конце 1953 года в пятилетний план работы Академии Генерального штаба, разработанный в 1951 году, были внесены коррективы в соответствии с приказом министра обороны СССР. Приказ был озаглавлен: «Об изучении ядерного оружия и особенностей подготовки, ведения и обеспечения операции и боя в условиях применения этого оружия». В свете этого факта о какой подготовке Вооружённых Сил сталинского СССР к превентивной ядерной войне может идти речь? Зато к тому времени, когда в советском Генштабе вынуждены были заняться анализом совершенно новой ситуации в военном деле, на Западе вовсю «воевали» ядерным оружием с СССР и на картах ГенНЕТ, в СССР ядерное оружие именно что с самого начала рассматривалось советскими политиками как гарантия мира для России и мира. И советское ядерное оружие впервые в истории человечества действительно дало миру прочный глобальный мир за счёт ядерного паритета СССР с США. Уместно подчеркнуть, что так смотрят на проблему все здоровые силы и современного российского общества. Ядерное оружие России сдерживало ранее и сдерживает сейчас потенциально агрессивные силы, психологически ориентированные на войну. Что же до «тактико-технико-экономической эффективности решения задачи» и прочего подобного, то аналитические исследования такого рода всего лишь призваны минимизировать «оружейную» нагрузку на государственную казну при достижении максимально возможного