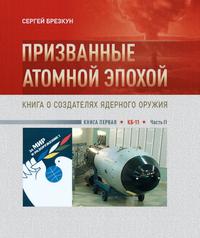Призванные атомной эпохой. Книга о создателях ядерного оружия: Книга 1. КБ-11. Первые двадцать лет: от подвига первопроходцев к зрелой оружейной работе...Часть 2
Покупка
Новинка
Автор:
Брезкун Сергей Тарасович
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 263
Дополнительно
Вид издания:
Научно-популярная литература
Уровень образования:
Дополнительное образование взрослых
ISBN: 978-5-9515-0544-6
Артикул: 853159.01.99
Первая книга документальной дилогии о создателях советского ядерного оружия представляет собой прежде всего попытку дать коллективный профессионально-психологический портрет нескольких поколений оружейников на фоне той эпохи, когда начиналась и развивалась отечественная ядерная оружейная деятельность. «Атомная» эпоха имеет впечатляющую, непростую и многоплановую историю, и достойное место в ней занимают страницы, повествующие о становлении КБ-11 - центра по разработке советского ядерного оружия, развившегося в мощный Всесоюзный НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ, «Арзамас-16»). В закрытом городе, с 1954 года получившем на государственном уровне закрытое же наименование «Кремлёв» (ныне Саров), в «Средней полосе России» жили и действовали люди, среди которых были гении, были талантливые специалисты, были и «всего лишь» отличные, толковые специалисты. Все вместе они составляли содружество, от чьих успехов и неуспехов в немалой мере зависело то или иное будущее человечества. Не будет преувеличением сказать, что они были призваны эпохой и, в свою очередь, создавали эпоху. Органичное слияние научных знаний, научного эксперимента с инженерными задачами и инженерным экспериментом, взаимодействие учёных, начиная с физиков-теоретиков, с инженерами - конструкторами ядерных и термоядерных зарядов и ядерных боевых частей, с работниками опытного завода обусловило формирование самобытной профессионально-социальной «культуры КБ-11/ВНИИЭФ» и
связанной с ней «культуры Кремлёва», о чём тоже сказано в книге. При этом проведены параллели с историей атомного проекта США, включая психологические аспекты проблемы. Хронологические рамки двухчастной первой книги дилогии - «КБ-11» - охватывают период преимущественно со второй половины 1940-х годов, когда зарождалось непосредственно КБ-11, и до того момента во второй половине 1960-х годов, когда КБ-11 было преобразовано во ВНИИЭФ. Вторая книга дилогии - «ВНИИЭФ» - доводит рассказ до начала 1990-х годов. Но не только о КБ-11 и ВНИИЭФ говорится в книгах дилогии. Она - в рамках темы - повествует и в целом об эпохе, которая породила КБ-11 и ВНИИЭФ, эпохе неуклонного продвижения Советского Союза к режиму прочной глобальной стабильности, обеспеченной ядерной мощью СССР.
Для широкого круга читателей.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 14.03.01: Ядерная энергетика и теплофизика
- ВО - Специалитет
- 14.05.02: Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Сергей Брезкун ПРИЗВАННЫЕ АТОМНОЙ ЭПОХОЙ Книга о создателях ядерного оружия В двух книгах Книга первая КБ-11 Первые двадцать лет: от подвига первопроходцев к зрелой оружейной работе… Часть 2 Саров 2024
УДК 623.454.8(09)
ББК 31.4
Б 87
DOI: 10.53403/9785951505446
Брезкун С. Т.
Б 87 Призванные атомной эпохой. Книга о создателях ядерного оружия: в 2-х книгах. –
Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2024.
ISBN 978-5-9515-0542-2
Книга 1. КБ-11. Первые двадцать лет: от подвига первопроходцев к зрелой оружейной работе...
Часть 2. – 261 с. – ил.
ISBN 978-5-9515-0544-6
Первая книга документальной дилогии о создателях советского ядерного оружия представляет
собой прежде всего попытку дать коллективный профессионально-психологический портрет нескольких поколений оружейников на фоне той эпохи, когда начиналась и развивалась отечественная ядерная
оружейная деятельность. «Атомная» эпоха имеет впечатляющую, непростую и многоплановую историю,
и достойное место в ней занимают страницы, повествующие о становлении КБ-11 – центра по разработке советского ядерного оружия, развившегося в мощный Всесоюзный НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ, «Арзамас-16»). В закрытом городе, с 1954 года получившем на государственном уровне
закрытое же наименование «Кремлёв» (ныне Саров), в «Средней полосе России» жили и действовали
люди, среди которых были гении, были талантливые специалисты, были и «всего лишь» отличные, толковые специалисты. Все вместе они составляли содружество, от чьих успехов и неуспехов в немалой мере
зависело то или иное будущее человечества. Не будет преувеличением сказать, что они были призваны
эпохой и, в свою очередь, создавали эпоху.
Органичное слияние научных знаний, научного эксперимента с инженерными задачами и инженерным экспериментом, взаимодействие учёных, начиная с физиков-теоретиков, с инженерами – конструкторами ядерных и термоядерных зарядов и ядерных боевых частей, с работниками опытного завода
обусловило формирование самобытной профессионально-социальной «культуры КБ-11/ВНИИЭФ» и
связанной с ней «культуры Кремлёва», о чём тоже сказано в книге. При этом проведены параллели с
историей атомного проекта США, включая психологические аспекты проблемы.
Хронологические рамки двухчастной первой книги дилогии – «КБ-11» – охватывают период преимущественно со второй половины 1940-х годов, когда зарождалось непосредственно КБ-11, и до того
момента во второй половине 1960-х годов, когда КБ-11 было преобразовано во ВНИИЭФ. Вторая книга
дилогии – «ВНИИЭФ» – доводит рассказ до начала 1990-х годов. Но не только о КБ-11 и ВНИИЭФ говорится в книгах дилогии. Она – в рамках темы – повествует и в целом об эпохе, которая породила КБ-11 и
ВНИИЭФ, эпохе неуклонного продвижения Советского Союза к режиму прочной глобальной стабильности, обеспеченной ядерной мощью СССР.
Для широкого круга читателей.
УДК 623.454.8(09)
ББК 31.4
Фотоматериалы – из архивов Музея ядерного оружия и фотостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ, городского музея
г. Сарова, городского парка культуры и отдыха им. П. М. Зернова и открытых источников сети Интернет.
Редакционная коллегия:
О. А. Москалев (председатель), Б. П. Барканов (заместитель председателя), А. И. Балуев, В. И. Ефремов, В. П. Гордовский, Е. И. Степашин, А. А. Агапов, Н. А. Илюхин.
© С. Т. Брезкун, 2024
© ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2024
ISBN 978-5-9515-0542-2
ISBN 978-5-9515-0544-6 (книга первая, часть 2)
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГА ПЕРВАЯ КБ-11 Часть 2-я 4 НЕСКОЛЬКО СЛОВ, ПРЕДВАРЯЮЩИХ ЧАСТЬ 2-ю КНИГИ 1-й 8 Глава 10 ПОСЛЕ РДС-1 48 Глава 11 ИСТОКИ И СТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 76 Глава 12 НЕМНОГО О РЕЖИМЕ… 102 Глава 13 СЛАВНЫЕ, ТРУДНЫЕ И БУРНЫЕ 1950-е… 164 Глава 14 УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ РОСТА 225 Глава 15 НА ПУТИ К ПАРИТЕТУ Послесловие к книге 1-й 259
Несколько слов, предваряющих часть 2-ю книги 1-й ИТАК, часть 1-я книги 1-й документальной В свой черёд, в части 2-й книги 1-й будет рассказано о временах не только после РДС-1, но о временах и более ранних, о которых уже говорилось. В отличие от художественного романа, события в документальном повествовании развиваются не по воле пишущего о той или иной эпохе, а по логике реальной невыдуманной жизни. В жизни же нередко настоящее неразделимо переплетается и с прошлым, и с будущим. Да и прошлое нередко переплетается с будущим, а будущее – с прошлым. Это и сказалось на построении книги. дилогии об истории ядерного «Арзамаса-16» читателем прочитана. Те, кто знаком с историей КБ-11, узнали для себя, надо полагать, что-то новое, а уже известное ещё раз припомнили, и, надеюсь, заново осмыслили. А те, для кого история советских ядерных оружейных работ была известна мало или неизвестна вообще (увы, сегодня нередко и такое), достаточно освоились в той эпохе, познакомились со многими ведущими её фигурами, и рассказ можно продолжать уже увереннее. Перед читателем – часть 2-я книги 1-й… ВОЗНИКНОВЕНИЕ Атомной проблемы в И тут, пожалуй, следует кое-что пояснить. Формально книгу 1-ю было решено раздеСССР в её не мирном аспекте было запрограммировано действиями враждебного внешнего мира. Годы до РДС-1 – это период атомной монополии США и начала Западом «холодной» войны против Советской России. 29 августа 1949 года период атомной монополии закончился, и начался новый период. Суть, направленность, масштабы деятельности советских оружейников и в этот период, с начала 1950-х годов, определялись создаваемой Западом мировой ситуацией. Для общего понимания этой ситуации достаточно напомнить о некоторых событиях конца 1940-х годов. Тогда станет яснее, что развитие наших оружейных работ явилось естественной реакцией на линию поведения Запада… Собственно, вернёмся вначале даже не в колить на две части – часть 1-ю и часть 2-ю с сохранением сквозной нумерации глав – из соображений удобства печати – один том получался слишком толстым. Вторым соображением для такого решения стало стремление сделать книгу более удобной для читателя – в двух частях книгу проще сверстать с широкими полями и достаточно крупным шрифтом. Однако ничего в мире нет случайного… Так и здесь – текст легко разделился на примерно две половины не только формально, но и естественным образом. А естественным потому, что и первые двадцать лет истории «Арзамаса-16» логично разделяются на два, хотя и неравных по продолжительности, но существенно различающихся периода: период становления КБ-11 в ходе работы над РДС-1, то есть до РДС-1, и затем период активного развития КБ-11 после РДС-1. В части 1-й книги 1-й шла речь о временах не только до успеха РДС-1, то есть не только о становлении работ в КБ-11 по первой советской атомной бомбе. Говорилось и о временах более поздних. Однако основное внимание было уделено всё же периоду, завершением которого стало испытание РДС-1. нец, а в середину 1940-х годов, и даже – во времена войны. О положении дел в 1945 году ранее уже говорилось – в части 1-й книги 1-й, – однако не мешает оценить его ещё раз. Приход Красной Армии в Европу в 1945 году изначально был обусловлен не агрессией России против Европы, а агрессией Европы во главе с Гитлером против России. Тем не менее, этот приход не про
сто всполошил имущие элиты Европы и США, но привёл бы их после войны в состояние «грогги», испытываемое боксёром после нокдауна, если бы… Если бы подобные «тревоги» не начались на «демократическом» Западе ещё в ходе войны. После Курской битвы стало ясно, что Сосия контролировала ситуацию в Бухаресте и Софии… И хотя Советский Союз вёл себя весомо, но не агрессивно, и территориальных претензий не выдвигал, он был виноват в глазах Запада уже тем, что пришёл в Европу. По мнению Запада криминальным был сам факт появления русских в центре Европы. ветский Союз победит – даже один на один с подвластной Гитлеру Европой. Это беспокоило истеблишмент как Германии, так и Англии с Америкой, и заговор против Гитлера в вермахте и абвере летом 1944 года носил не столько антигитлеровский, сколько антисоветский характер – целью был сепаратный мир с англосаксами и продолжение войны на Востоке. Причём первые русофобские импульсы анДля народов Европы советский Солдат-освободитель на пьедестале в берлинском Трептов-парке, был символом освобождения от нацизма, а для элит Европы и США – источником ненависти глосаксов надо относить ко времени ещё до Курска – сразу после Сталинграда! Военный атташе США в СССР бригадный генерал Мишела уже в донесении от 18 февраля 1943 года рассуждал о том, что Советский Союз, одержав победу под Сталинградом, якобы готовится к противостоянию с союзниками сразу после того, как Германия будет разгромлена, и в Центральной Европе образуется вакуум. Мишела уверял, что «Советы намереваются реализовать территориальные претензии в Европе, даже если им придётся прибегнуть к вооружённой силе на следующий же день после окончания войны с Германией». Генерал рекомендовал проводить в отношении СССР «жёсткий курс». Возникала эта тема и в переговорах РузвельРеакция – пусть не реально военная, но полита с Черчиллем на конференции в Касабланке в январе 1943 года, где затрагивался и «атомный» аспект, в том числе в свете «невыясненности» планов СССР по послевоенному устройству Европы. 12 апреля 1945 года Рузвельт неожиданно скончался, президентом США стал вице-президент Гарри Трумэн, к Советской России, как минимум, не лояльный, если не сказать больше… тически провокационная, последовала незамедлительно. Ранее об этом уже говорилось, поэтому лишь кратко напомню, что 24 мая 1945 года Черчилль санкционировал разработку плана операции против Советского Союза с кодовым наименованием «Немыслимое». По этому плану на советские войска должны были ударить до 3 миллионов солдат «тоталитарного» вермахта, поддержанных, естественно, вооружёнными силами западных «демократий». И вот наступило 9 мая 1945 года… Германия повержена. А большевики – да не Зная всё это сегодня – а для Сталина и Кремля это не было тайной за семью печатями и тогда – не так сложно ответить на вопрос: были ли у Советского Союза основания не то что не доверять после войны вероломным «союзникам», но быстро осознать их крайнюю враждебность к просто большевики, а огромные массы первоклассно вооружённых большевиков – в центре Европы! Тревога перерастала в панику! Англосаксы затянули со вторым фронтом так, что русский солдат пришёл не только в Берлин и Вену, но и в Варшаву, Будапешт, Прагу, Белград, Рос
России, способную привести к новой войне? Всё в отношениях Запада и СССР стало определяться действительно чуть ли не на следующий день после окончания войны, но тон нетерпимости и нежелание считаться с интересами партнёра исходили не от России, а от Запада. Так оно дальше и пошло… ского командования – с тем же высшим чином СС генералом Вольфом – возможность капитуляции войск Германии на Западе, а американцы извещали об этом Сталина, и в его лице – Советский Союз, с задержками и неполно. Тем не менее, тост Сталина намекал, скорее всего, не только на это, и не столько на это, сколько на «атомное» молчание высоких сотрапезников. ЗАКОННОЕ недоверие Сталина питалось во Совесть у Черчилля и Рузвельта была здесь, конечно же, нечиста. Известить Сталина – хотя бы в общем виде – в Ялте они были обязаны. И крайне цветастый ответный тост президента США явно отражал подспудное чувство неловкости, вызванное сомнением относительно того, что США и Англия Сталина-то обманывают, но вот обманули ли – вопрос? Так что основания не очень-то доверять даже Рузвельту у Сталина были. Но Рузвельт не только в тостах был нацелен на осуществление – как он сказал в застольной речи 8 февраля – «мечты простых людей – жить в мире, гарантированном… от агрессии и зла», иначе «пролитый океан крови окажется бесполезным и аморальным жертвоприношением». Рузвельту, останься он жив, можно было бы, проверяя, и доверять. А вот сменивший его Гарри Трумэн моральными сомнениями по части обмана Сталина и допустимости пренебрежения интересами России не страдал. Начиналась «холодная война». 17 МАРТА 1948 года в Брюсселе Бельгия, время войны и сразу после неё также «атомным» аспектом отношений с союзниками. А точнее – официальным его отсутствием и к лету 1945 года. Атомные работы в Англии велись под кодовым наименованием «Tube alloys», в США одним из кодовых наименований, кроме «Манхэттенского проекта», было «Программа S-1» – по названию Урановой секции S-1 Исследовательского комитета национальной обороны США. Об обоих этих проектах Сталин узнал не от союзников по антигитлеровской коалиции, а из донесений советской разведки. И даже когда работы по «Программе S-1» в США были близки к завершению, Рузвельт и Черчилль на Крымской (Ялтинской) конференции «Большой тройки» не обмолвились об этом в беседах со Сталиным ни полсловом. Оба были склонны считать, что Сталин о проекте атомной бомбы не осведомлён, и предпочли о нём умалчивать. Но Сталин-то был осведомлён, и осведомлён неплохо, и имел полное моральное право считать, что его, даже минимально не вводя в курс дела, обманывают. А где обман, о каком доверии может быть речь? В ходе Крымской конференции на обеде Франция, Люксембург, Нидерланды и Великобритания заключили военно-политический союз на 50 (!) лет, «чтобы (цитируется по русскому переводу справочника "NATO. Handbook" за 1995 г., – С.Б.) противостоять идеологическим, политическим и военным угрозам своей безопасности». Угрозам с чьей же, спрашивается, стороны? Со стороны СССР ни малейшей политиче8 февраля 1945 года Сталин произнёс тост с подтекстом: «…Я предлагаю выпить за наш союз. В нашем союзе его участники не должны обманывать друг друга. Может это звучит наивно. Опытные дипломаты говорят: "Почему я не могу околпачить моего партнёра по союзу?". Но я, наивный человек, думаю, что лучше не пытаться это делать, даже если ваш союзник просто глуп. Возможно, наш союз потому является таким прочным, что нам нелегко было бы обманывать друг друга? Я пью за это!». Тогда Аллен Даллес и другие эмиссары союзников зондировали с представителями германской и военной угрозы ни одной из этих стран не было и быть не могло. Что же до идеологии, то борьба идей является неотъемлемой провозглашаемой частью той демократии, к которой взывал сам Запад. Впрочем, в Брюсселе была, так сказать, сыграна прелюдия. Затем последовали «переговоры» с США и Канадой на предмет их присоединения к Брюссельскому пакту, куда
«пригласили» также Данию, Исландию, Италию, Норвегию и Португалию. Если не копыта, то бородка дяди Сэма проглядывала из всего этого вполне явственно. В итоге, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был так называемой Тризонии – объединённой американо-англо-французской зоны оккупации, созданной по результатам Лондонского совещания трёх держав (февраль–июнь 1948 года). Ещё раньше – в декабре 1946 года – была создана Бизония – «двойная зона» американо-английской оккупации. Всё это – вопреки позиции Советского Союза и лично Сталина, исходящей из необходимости единой нейтральной внеблоковой Германии. Лишь после образования ФРГ Советский Союз пошёл на провозглашение Германской Демократической Республики 7 октября 1949 года. ОБОСТРЯЛ ситуацию и провал планов США подписан уже Атлантический пакт (Северо-Атлантический договор), которым создавался блок NATO (North Atlantic Treaty Organisation). В его состав вошли (первоначально): США, Великобритания, Франция, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия. В ходе подготовки Запада к созданию НАТО Министерство иностранных дел СССР 29 января 1949 года выступило с заявлением, а 31 марта и 4 апреля 1949 года уже Советское правительство обратилось к странам, намеренным образовать НАТО, с меморандумами – увы, вотще. относительно Китая. Вместо проамериканского Китая «генералиссимуса» Чан Кайши, 1 октября 1949 года лидер Компартии Китая Мао Цзэдун провозгласил в Пекине на площади Тяньаньмэнь Особенно «знаково» выглядела в этой «комКитайскую Народную Республику. Чан Кайши с остатками войск Гоминьдана бежал на остров Тайвань под прикрытие США. Всё это – в условиях, когда в США ядерный оружейный комплекс разрабатывал новые типы ядерного оружия, одновременно и непрерывно наращивая арсенал атомных авиабомб, а в Европе и у азиатских границ СССР возникала сеть американских военно-воздушных баз. Будущее было чревато для СССР ядерной пании» Исландия. Фактически, её вовлечение в НАТО оказывалось для США саморазоблачением, но без Исландии Америка не могла обойтись никак. С 1380 года Исландия принадлежала Дании, с 1918 по 1944 год была связана с ней личной унией, но во время Второй мировой войны США в 1941 году ввели в Исландию войска, создали там свои военно-морские и авиационные базы и уходить с лакомого в стратегическом отношении острова не собирались, обеспечив ему «суверенитет». Потому и пришлось Соединённым Штатам Америки срочно озаботиться «безопасностью» исландцев. Следующим шагом Запада стало принятие 5 мая 1949 года Основного закона (Конституции) отдельного западногерманского государства, и образование в сентябре 1949 года Федеративной Республики Германии в пределах агрессией Запада и США в случае, если слом атомной монополии США не будет подкреплён ядерным паритетом России с Америкой. Этим, после успеха РДС-1 в августе 1949 года, определялась рабочая, нравственная и психологическая атмосфера во всё более разрастающемся коллективе разработчиков отечественного ядерного оружия. О том и продолжается наш рассказ, уходящий из 1940-х в 1950-е годы…
Глава 10 ПОСЛЕ РДС-1 СО ВТОРОЙ половины 1940-х годов в Соеках». И что интересно: Теллер узнал о конце атомной монополии США – именно так определяли ситуацию аршинные газетные заголовки – в конце совещания в Пентагоне по тактическим ядерным вооружениям. Заранее было ясно, что «тактические» атомные заряды – в США их назвали «оружием поля боя» – предназначены не для защиты границ США, а для «экспорта» ядерной войны. «Экспорта», в том числе и прежде всего – в Европу, против СССР. И вот при такой, очевидно агрессивной линии Америки, у политиков и оружейников США хватало совести паниковать по поводу якобы «агрессивности Советов». Так или иначе, былое чувство превосходства динённых Штатах Америки в возможный скорый «атомный» успех «Советов» и не верили, и всё же его опасались. Было создано специальное управление ВВС США, известное как AFOAT-1, призванное осуществлять контроль атмосферы. С весны 1949 года специально оборудованные самолёты В-29 барражировали вдоль границ СССР. В свете того, что в Америке, вроде бы, относили срок возможного советского испытания на период лишь 1950-х годов, сложно сказать, чем объясняется принятие решения о воздушном контроле именно весной 1949 года. Не исключено, что имела место утечка сведений из СССР (может, и непреднамеренная) о скором завершении советских работ по Бомбе, а, возможно, спецслужбы США имели где-то у нас и «крота». Ранним утром 7 сентября 1949 года аналитиисчезало, причём в Вашингтоне и даже в ЛосАламосе стали опасаться, что русские-де опередили США и с термоядерным «Супером». (Смутные идеи термоядерной супербомбы возникли у теоретиков Лос-Аламоса – в частности, у Ферми и Теллера – задолго до атомных бомбардировок Японии, чуть ли не в 1941 году). Увы, в США выдавали желаемое (для них, ки AFOAT-1 установили, что в пробе воздуха, взятой В-29 между Аляской и Японией, содержатся продукты атомного взрыва. 9 сентября, после уточнения анализов, об этом была уведомлена администрация президента Трумэна. Первая реакция оказалась скептической, совпрочем, не желаемое) за действительное. Не только у оружейников США, но и у оружейников СССР с «водородной» бомбой всё ещё было впереди. Однако к осени 1949 года относится некий эпизод, на котором стоит остановиться отдельно – он являет собой показательный пример того, насколько умно выстраивал с самого начала «атомную» политику Советского Союза Сталин. Впрочем, вначале – кое-что ещё о реакции и ветник Трумэна по вопросам национальной безопасности адмирал Сидней Сауэрс был склонен считать, что просто произошла авария на советском атомном реакторе. Но вскоре скепсис и спесь сменились шоком. Ряд «лос-аламосских» физиков предсказывал появление русской бомбы давно, однако и для них информация AFOAT-1 стала тем не менее потрясением. Они-то понимали, что радиоактивные продукты взрыва реактора и взрыва бомбы различаются по изотопному составу, а полученные пробы свидетельствовали о взрыве именно бомбы. Теллер, узнав о новости, позвонил Оппеннастроениях в США… Об этом уже говорилось в части 1-й книги 1-й, но больше в плане реакции газетчиков, политиканов и широкой публики. А была же и чисто деловая реакция профессионалов, то есть атомщиков, военных и участников реального государственного управления. Так вот, после того, как средствами дальнего обнаружегеймеру и вопросил: «Что нам теперь делать?». Оппенгеймер ответил резко: «Держите себя в ру
После РДС-1 В Кремле думали о мире, зная, что в Белом доме готовят войну В Белом доме, задумывая войну, гадали – чем может ответить Кремль? сительно одного – атомная бомба у русских есть. Но был ли зафиксированный в начале сентября взрыв первым? Или он был очередным? Если верным было последнее, то возникали ния AFOAT-1 были получены достоверные данные о том, что Бомба у русских есть, и атомной монополии США пришёл конец, во всей остроте перед США встал вопрос – а первый ли это русский взрыв? Ещё до того, как этот взрыв был зафиксирован, призрак советской Бомбы тревожил всех, кто был прямо причастен к проблеме – и в Комиссии по атомной энергии США, и в Госдепе, и в Пентагоне, и, естественно, в Лос-Аламосе. И ещё до испытания РДС-1 – в начале авгудругие естественные вопросы: а как далеко «Советы» продвинулись; когда у них эта самая бомба появилась впервые; и сколько бомб Кремлю удалось накопить? От точных ответов на эти вопросы зависела перспективная политика США в отношении СССР. ДА, ТРЕВОЖНЫМИ, тревожными были умонастроения в различных кругах США – от государственных до научных. А Сталин предпринял блестящий дезинформационный ход, ещё более смутивший руководящие заокеанские умы. И вот в чём заключался этот ход конкретно. Через месяц после испытания РДС-1 было опубликовано Сообщение ТАСС от 23 сентября 1949 года. Формально главным в этом сообщении было то, что в нём... фактически отрицался факт производства Советским Союзом атомного взрыва в конце августа 1949 года. И в таком решении советского руководства ста 1949 года – экс-контр-адмирал и миллионер Льюис Страусс из Комиссии по атомной энергии писал директору AFOAT-1, что «если не будет обнаружен первый российский взрыв атомной бомбы, это может оказаться фатальным». Тревожился и председатель сенатского комитета демократ из Коннектикута Джеймс О`Брайен МакМахон (Мак-Магон). Большой шум вызвало подхваченное «Ассошиэйтед Пресс» сообщение одной из парижских газет о значительных сейсмических возмущениях на территории СССР «где-то рядом с афганской границей». Как выяснилось, тогда это было обычным землетрясением, но Оппенгеймер и его коллеги полагали, что «если бы русские провели подземное испытание своей первой бомбы, то обнаружить его, вполне возможно, и не удалось бы». Иными словами, с приходом осени 1949 года был свой точный расчёт. Начав с констатации: «22 сентября президент Трумэн объявил, что по данным правительства США, в одну из последних недель в СССР произошёл атомный взрыв...», определённость существовала в США лишь отно
Глава 10 нии это оружие. Научные круги Соединённых Штатов Америки приняли это заявление В. М. Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года. Однако они ошиблись, так как Советский Союз овладел секретом атомного оружия ещё в 1947 году». Текст Сообщения вырабатывался явно при участии Сталина. Это видно уже по литературному стилю Сообщения ТАСС, но ещё более руку Сталина выдаёт политический стиль документа. Сталин прекрасно знал, что заявление Молотова в 1947 году было, по сути, блефом. И так же он знал, что на этот раз – в 1949 году – у Запада есть реальные причины для политической паники, поскольку на этот раз в распоряжении США были не слова Молотова, а данные радиохимических проб воздуха. И вот теперь – уже имея в своём распоряжении реальное средство ядерного ответа, ликвидировав атомную монополию США не на страницах «Правды», а на деле, Сталин произвёл некую инверсию блефа. Обычно блефуют, не имея на руках козырей, а Сталин поступил нетрадиционно – он блефовал, имея козыри. К слову, об авторстве Сталина свидетельствует и ма˜ стерская конструкция «тассовского» Факсимиле Сообщения ТАСС от 23 сентября 1949 года Сообщение ТАСС объясняло всё тем, что в Советском Союзе «ведутся строительные работы больших масштабов, ...которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств». Непосредственно «атомный» аспект сообщения выглядел так: «Что же касается производства атомной текста… В Сообщении ТАСС хотя и было сказано: «Советский Союз… имеет в своём распоряжении это оружие», всё же не подчёркивалось, что Советский Союз овладел-де именно в 1947 году атомным оружием, что истине не соответствовало. Было сказано, что Советский Союз ещё в 1947 году овладел секретом атомного оружия, что было в немалой мере верным. Пуск первого советского ядерного реактора Ф-1 в Лаборатории № 2 был произведен 25 декабря 1946 года, а в июне 1948 года на Урале начал работать первый промышленный реактор «А» («Аннушка»). Тонкий стилист Сталин и здесь подтвердил свой класс! И, так сказать, «правдивым» блефом Сталин энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить, что ещё 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что "этого секрета давно не существует". Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своём распоряжесвоего добился: Запад был шокирован, пожалуй, не столько даже тем, что у СССР в 1949 году действительно обнаружилось ядерное оружие, сколько тем, что оно, похоже, было у него уже в 1947 году. А из этого следовало, что СССР, весь