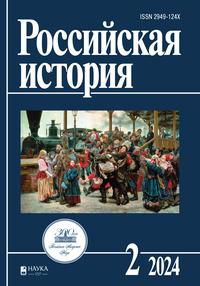Российская история, 2024, № 2
научный журнал
Покупка
Новинка
Тематика:
Российская история
Издательство:
Наука
Наименование: Российская история
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 257
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Российская история В номере: В столице противника: французы в Москве и русские в Париже в 1812–1815 гг. Основан в марте 1957 года Царь и министр во время русско-польской войны 1830–1831 гг. Первая мобилизация в Российской империи Выходит 6 раз в год Как мобилизовывали подданных царя в Китае Женщины на службе в военной цензуре в период Первой мировой войны Исследование повседневной жизни Балтийского флота Кандалакшское направление в советском военном планировании Срыв немецких планов на Курской дуге Механизмы экономической победы в Великой Отечественной войне Обсуждаем книгу А.Г. Гуськов, К.А. Кочегаров, С.М. Шамин. Русско-турецкая война 1686–1700 гг. март апрель МОСКВА 2024 2
Журнал издается под руководством Отделения историко-филологических наук РАН Г Л А В Н Ы Й Р Е Д А К Т О Р В.Н. Захаров Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й С О В Е Т В.А. Аракчеев, А.Н. Артизов, Б.В. Базаров, В.П. Булдаков, Р.Г. Гагкуев, А.Е. Иванов, С.П. Карпов, В.В. Кондрашин, В.А. Кучкин, А.К. Левыкин, Д. Ливен, Е.А. Мельникова, С.В. Мироненко, К.В. Никифоров, Ю.А. Петров, Е.И. Пивовар, Р.Г. Пихоя, Д. Свак, А.В. Сиренов, А.К. Сорокин, В.А. Тишков, Е.А. Тюрина, У Эньюань, В.С. Христофоров, В.В. Шелохаев, А.В. Юрасов Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я О.Г. Агеева, А.Л. Беглов, О.В. Большакова, О.В. Будницкий, П. Бушкович, П.Г. Гайдуков, А.А. Горский, В. Дённингхаус, С.В. Журавлёв, В.В. Зверев, Е.Ю. Зубкова, А.А. Иванов, Д.Ю. Козлов, Н.В. Козлова, Б.И. Колоницкий, М. Крамер, В.Н. Круглов, Д.В. Лисейцев (зам. главного редактора), П.В. Лукин, А.В. Мамонов (зам. главного редактора), Л.В. Мельникова, А.П. Павлов, Д.Б. Павлов, Д.А. Редин, К.А. Соловьёв, П.Ю. Уваров, О.В. Хлевнюк О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й С Е К Р Е Т А Р Ь М.А. Новикова А д р е с р е д а к ц и и 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19. Тел.: 8-499 723 69 10 Электронная почта: otech_ist@mail.ru; otech_ist1@mail.ru На обложке: К.А. Савицкий. На войну (1888) © Российская академия наук, 2024 © Редколлегия журнала «Российская история» (составитель), 2024
Диалог о книге А. Г. Гуськов, К. А. Кочегаров, С. М. Шамин. Русско-турецкая война 1686–1700 годов. В российской исторической науке со времени, когда учёные, преодолев этап написания хронологически широких обобщающих трудов, стали специализироваться на изучении того или иного увлёкшего их периода, сложилось несколько своеобразных рубежей, разделяющих пространство прошлого на несколько слабо связанных между собой эпох. К их числу, в частности, относится Батыево нашествие XIII в., дающее учёным основания специализироваться на исследовании «домонгольского» периода или, напротив, истории России времени ордынского владычества1. Не менее глубокая пропасть пролегла между специалистами по истории XVII и XVIII вв. Историки, отдавшие сердце первому из этих двух столетий, не любят заглядывать во второе (как правило, увлекаясь «экзотикой» Московской Руси и, в лучшем случае, указывая на ошибки первого императора и цену проводимых им преобразований). Учёные же, специализирующиеся на истории XVIII в., напротив, обыкновенно имеют самое общее представление о предшествующем периоде, часто воспринимая его как негативный фон, обосновывающий необходимость и гениальность петровских реформ, вырвавших Россию из оков «азиатской дикости» и превративших её в страну европейскую. Об ограниченности таких шаблонных представлений немало сказано и написано исследователями, работающими по обе стороны «рубежа XVII–XVIII вв.», но приходится констатировать, что прочных мостов, позволяющих преодолевать эту пропасть, до сих пор не так уж и много. Тем отраднее видеть появление работы, представляющей собой, по сути, ещё одно звено, связующее «старую Русь» и «новую Россию». Таковым по праву можно считать недавно опубликованную монографию А. Г. Гуськова, К. А. Кочегарова и С. М. Шамина о русско-турецкой войне конца XVII в.2 Помимо бесспорно важного магистрального сюжета монографии, в контексте сказанного выше она интересна ещё и тем, что изучаемый авторами военный конфликт хронологически относится как к «закату Московской Руси», так и к «заре петровской эпохи». И именно на материале исследуемых событий (гораздо более широком, нежели традиционная «военная история») становится особенно очевидной искусственная природа барьера, по разные стороны которого лежат «бесславные крымские походы Голицына» и «блестящее Азовское взятие Петра I». Авторам книги удалось показать, что речь идёт о непрерывной цепи событий, исторически и логически связанных между собой и составляющих часть единого полотна российской истории XVII–XVIII вв. В дискуссии о достоинствах и спорных моментах монографии приняли участие доктора исторических наук Б.В. Носов и Д.В. Сень, кандидаты исторических наук П.А. Аваков, Т.А. Базарова и Г.М. Казаков. Материал подготовлен Д. В. Лисейцевым 1 Историография новейшей эпохи возвела для себя ещё два труднопреодолимых «вала», разделив события последних ста с небольшим лет на периоды «досоветский», «советский» и «постсоветский». 2 Гуськов А. Г., Кочегаров К. А., Шамин С. М. Русско-турецкая война 1686–1700 годов. М.: Русское слово – учебник, 2022. 528 с. 3
Дмитрий Сень. История «незнаменитой войны» Dmitry Sen’ (Southern Federal University, Rostov on Don, Russia). The story of the «unknown war» DOI: 10.31857/S2949124X24020018, EDN: HKKDRS Монография А. Г. Гуськова, К. А. Кочегарова и С. М. Шамина представляет собой масштабное исследование самой продолжительной войны в истории многовековых взаимоотношений России и Османской империи, именуемой авторами «Русско-турецкой войной 1686–1700 годов». Они последовательно шли к написанию столь объёмного труда, опубликовав в последние годы несколько больших научных статей по теме исследования. Одна из сильных сторон труда – использование нескольких взаимосвязанных территориальных и иных «оптик», позволяющих системно уяснить содержание и характер различных событий, происходивших на многочисленных театрах военных действий. Это осуществлено путём последовательного установления общего и отличительного в реализации многочисленных военных кампаний и менявшихся военных стратегий сторон. Отрадно, что авторы не поставили во главу угла описание лишь военных действий – напротив, они последовательно представлены в логике «комплексного взгляда на историю войны» (с. 8), в котором нашлось достойное место анализу военно-мобилизационной логистики, дипломатического сопровождения, идеологического обоснования боевых действий, форм и способов распространения информации воюющими сторонами. В тексте удачно сочетается анализ событий как международного масштаба, так и насыщенных деталями микроисторических сюжетов. Такие аккуратные «переходы» могут послужить для взыскательного читателя важным основанием для аналитической верификации общеавторской концепции. Её внутреннее единство, на мой взгляд, подчёркивается и тем, что соавторы отказались от привычного для изданий такого рода указания на индивидуальное авторство той или иной главы. Книга вносит заметный вклад в изучение истории взаимоотношений не только России и Османской империи, но также России и Крымского ханства, в историографии изучения которых не хватает крупных работ о периоде 1680–1690-х гг. Более того, не достаёт современных дискуссий о перспективах сохранения («живучести»3) державы Гиреев в XVIII в. в связи с итогами его развития на рубеже XVII–XVIII вв.4, причём ухудшение позиций ханства на международной арене уместно связать именно с итогами войны 1686–1700 гг. Авторы поставили перед собой несколько масштабных задач методического характера, направленных на преодоление историографических стереотипов о соотношении характера, итогов того или иного этапа войны в сравнении допетровского/петровского периодов в истории России, их якобы органического противопоставления. Они корректно указали, что в отечественной науке 3 Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 1948. С. 421. 4 Сень Д. В. Крымское ханство в конце XVII – начале XVIII вв.: внешняя и внутренняя политика в условиях новых исторических «вызовов» // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Сер. Общественные науки. 2018. № 2. С. 88–95; Сень Д. В. Русско-крымские отношения в условиях нового «пограничного порядка» (конец XVII – начало XVIII вв.) // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 6: Шестые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. Материалы к международной научной конференции. Москва, 20–21 ноября 2019 г. М., 2019. С. 655–659. 4
такое противопоставление (применительно к истории войны 1686–1700 гг.) до сих пор дробится на «“бесславные” Крымские походы 1687 и 1689 гг. кн. Голицына и “удачные” Азовские походы 1695–1696 гг. Петра I» (с. 6). Между тем скептическое отношение к итогам развития «допетровского» Российского государства в сравнении с достижениями петровской эпохи, к сожалению, ещё сопровождает изучение других крупных явлений или даже периодов прошлого России (истории европеизации, истории регентства царевны Софьи и пр.). Как здесь не вспомнить об образном (и не вполне историчном) высказывании М. П. Погодина о фигуре Петра I, «которая бросает от себя длинную тень на всё наше прошедшее (выделено мной. – Д.С.) и даже застит нам древнюю Историю»5. Выражусь определённо – необходимо приветствовать новые академические практики, связанные с наблюдениями за развитием целей внешней политики России при помощи более функциональных критериев, нежели деление многих явлений российской истории на «допетровский» и «петровский» периоды6. Обзор источников и историографии представлен авторами во введении. Они не стали подробно анализировать историографическое пространство темы, обосновав это тем, что не видят смысла анализировать во введении все работы, касающиеся отдельных эпизодов четырнадцатилетнего конфликта… Те из них, что сохраняют научное значение для комплексного изучения Русско-турецкой войны 1686–1700 гг., читатель обнаружит в примечаниях, снабжённых при необходимости критическими комментариями». Однако историки несколько противоречат сами себе, утверждая, что разветвлённая историография этого многолетнего конфликта отсутствует (с. 11). К тому же, из «суммы» отдельных историографий столь большой темы они выбрали лишь два блока, относящиеся к истории изучения, прежде всего, Крымских и Азовских походов. Что ещё более существенно, ссылки на те или иные научные издания в основном тексте не заменяют собой полноценного историографического обзора. При этом авторы монографии не всегда демонстрируют те или иные критические суждения о работах предшественников. Из «рассыпанного» по введению и основному тексту историографического обзора выпали действительно заметные труды. Их критический анализ позволил бы историкам ещё более аргументированно обосновать новизну своего масштабного исследования, а также определить дальнейшие перспективы работы над темой7. Не вполне справедлив упрёк, адресованный современной украинской историографии, «гиперболизирующей и героизирующей роль запорожского (украинского) казачества в истории Восточной Европы» (с. 10). Как всякая национальная историография, она неоднородна. Применительно к проблематике книги, помимо использованных 5 Погодин М. П. Пётр Великий // Москвитянин. 1841. Ч. 1. С. 3–4. 6 Примерно о том же, оправданно критикуя слишком частое проведение граней между XVII и XVIII вв., высказался недавно Н. Н. Петрухинцев (Петрухинцев Н. Н. Великое посольство как часть «восточного проекта» Петра I и внешнеполитической кризис 1698 г. // Исторический вестник. 2022. Т. 41. С. 17). 7 Boeck B. J. Imperial Boundaries: Cossack Communities and Empire-Building in the Age of Peter the Great. Cambridge, 2009; Петрухинцев Н. Н. «Восточный проект» Петра I [Peter I’s «Oriental project»] // Cahiers du Monde Russe. 63/2. 2022. P. 367–412; Станіславський В. В. Маловідомі документи щодо планів південної політики Московської держави у другій половині 80-х рр. XVII ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Вип. 7. Київ, 2000. С. 340– 357; Кузнецов В. И. Немецкая и австрийская историография об участии России в войне Священной лиги // Вестник МГИМО-Университета. 2021. № 14(6). С. 127–139. 5
авторами трудов В. Н. Зарубы, можно также обратиться к работам В. В. Станиславского – эмпирически фундированным, взвешенным, аналитическим8. Стоило уделить большее внимание анализу эвристического потенциала использованных источников (в книге он занял менее трёх страниц (с. 20–23)), авторскому видению такого понятия, как «малая война». Не вполне ясно, каким образом критерии для трёх периодов войны соотносятся с утверждением, что «за рамками данной хронологии остались боевые действия на Кавказе, специфика которых заставила выделить их в отдельную главу» (с. 8). Текст книги сопровождается интересным иллюстративным материалом, среди которого – новые для темы исследования карты, нечасто встречающиеся в аналогичных изданиях по военной истории. К слову, авторы справедливо уделили внимание обоснованию тематической выборки, представленной на этих картах (с. 23). Однако ни одна из представленных карт не сопровождается авторским знаком. Основное содержание монографии изложено в 11 главах, имеющих оригинальную структуру – без деления на параграфы, но с выделением внутри каждой из глав «дробных» тематических блоков. Это существенно облегчает восприятие «плотного» текста, в том числе насыщенного ссылками на первоисточники. Исследователи оправданно обратились к итогам русско-турецкой войны 1672–1681 гг., уделив особое внимание нормализации отношений Москвы с Бахчисараем и Стамбулом. Более детально, чем в предшествующей историографии, они сумели объяснить выгоду обеих сторон в пространстве менявшихся русско-крымских отношений (другие историки, включая В. А. Артамонова, подчёркивают негативные для Крымского ханства последствия ухудшения отношений с Россией). В настоящей книге подробно исследована дипломатическая, военная и административно-финансовая подготовка Россией первого Крымского похода, а также ответные мероприятия Крымского ханства по отражению российского наступления. Чрезвычайно важно, что в монографии приведены новые (после давнего исследования А. Х. Востокова) фактические и аналитические данные о вариантах возможной политики России в отношении Крымского ханства (весьма удачная формулировка на с. 70 – «московские альтернативы», в том числе предложение хану Селим-Гирею I принять российское подданство). Их стоит предметно рассматривать в пространстве давней научной дискуссии о целях, задачах и оценках итогов первого и второго Крымского походов – включая даже предположения о намерении России после захвата Крыма выступить на Стамбул9. Как верно отметил по схожему поводу П. А. Аваков, в «России пронизанная крестоносными мотивами традиционная антиосманская и антиисламская пропаганда в 1686–1699 и 1711 гг. всего лишь играла роль идеологического обрамления реальной политики»10. События первого Крымского похода показаны в монографии на широ8 Станіславський В. В. Політичні відносини Запорозької Січі з Річчю Посполитою та Правобережною Україною в 1686–1699 рр. // Український історичний журнал. 1999. № 1. С. 18–31; Станіславський В. В. Запорозька Січ у політичних відносинах з Кримським ханством (початок XVIII ст.) // Український історичний журнал. 1995. № 6. С. 3–21; Станиславский В. В. Участие запорожских казаков в Азовско-Днепровской кампании 1695–1698 гг. // Запорожская старина. Киев-Запорожье, 2007. Специальный выпуск. № 4. С. 169–178. 9 Станіславський В. В. Маловідомі документи… С. 346–348; Аваков П. А. «Азовский проект» Петра I: Северо-Восточное Приазовье во внешней и внутренней политике России конца XVII – начала XVIII века. СПб., 2022. С. 164–165. 10 Аваков П. А. Константинопольские мечты Петра I: навет, реальность или миф? // Новое прошлое/The New Past. 2023. № 3. С. 92. 6
ком событийном фоне, включая освещение сюжетов, связанных с реакциями на события украинского казачества, бунтом полка Г. Косагова. Эти и подобные события (в том числе неудачные переговоры с ханом) органично вплетены в системное объяснение не только военных, по и политических итогов первого Крымского похода. В книге подробно исследованы события, случившиеся между первым и вторым Крымскими походами, включая сюжеты, подчёркивающие органическую связь между целями и задачами обоих походов на время «передышки» между ними. Характерно, что в начале 1689 г. в наказе кн. В. В. Голицыну вновь говорилось о возможном переходе хана в российское подданство (с. 173). Авторы утверждают, и с этим можно согласиться, что организация второго Крымского похода оказалась на ещё более высоком уровне, чем первого, однако это не гарантировало его успеха. Уделено внимание анализу готовности крымцев защищать полуостров, освещена история создания в 1688 и 1689 гг. двух новых российских крепостей – Новобогородицка и Новосергиевска, игравших не последнюю роль в дальнейшем продвижении российских позиций. Нужно добавить, что основание этих крепостей обострило отношения Москвы с Запорожской Сечью, что запорожцы по-прежнему оставались важным фактором русско-крымских отношений. Приведены в книге некоторые новые данные о снижении военной активности Крымского ханства после второго похода (с. 253–255), что имело значение для европейских союзников России по Священной лиге. В целом авторы взвешенно отнеслись к оценке итогов обоих Крымских походов (с. 255–256). Принципиально важно их суждение о том, что походы показали существенно возросший потенциал Российского государства и его способность организовывать, перебрасывать на дальние расстояния огромное количество войск. Безусловно, это нужно учитывать в ходе системного анализа уже «“петровской” фазы русско-турецкой войны 1686–1700 гг.»11, определения влияния накопленного потенциала на активизацию (начиная с 1695–1696 гг.) вялотекущей на тот момент русско-турецкой войны. Военные действия 1690–1694 гг. авторы монографии осветили прежде всего как оборонительные для России, против которой велась якобы непрерывная «малая» война (с. 258). Полагаю, что военные акции далеко не всех участников войны (ногайцы, калмыки, черкесы, казаки-старообрядцы, турки-османы из Азова, украинские казаки) подпадают под определение «малой войны»12. Жизнь на степном пограничье изобиловала конфронтационными практиками (различные варианты взаимонаправленной набеговой системы – между запорожцами и крымскими татарами, донцами и ногайцами, донцами и калмыками), которые не сводились к интересам их сюзеренов. Не за каждой вооружённой акцией подданных Османов и Гиреев можно усмотреть «коварную руку» Стамбула или Бахчисарая. Жизнь пограничных сообществ была насыщена собственной развитой системой сдержек-противовесов и своими пограничными интересами, далеко не всегда направляемыми «из центра». Некоторые их участники (например, калмыки хана Аюки), считаясь подданными царя, одновременно могли вступать в ситуативные альянсы с азовцами и ногайцами против российских подданных. Аюка прагматично поддерживал связи с Крымом 11 Петрухинцев Н.Н. «Восточный проект» Петра I… С. 371. 12 Черепанов А. Ю. Малая война: социально-философский анализ понятия // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Философские науки. 2020. № 1. С. 40–47; Понкин И. В. Концепт малой войны // Право и образование. 2018. № 7. С. 12–23. 7
и с Азовом, в первой половине 1690-х гг. нападая на других российских подданных (башкир, яицких казаков, «владетелей» Северного Кавказа). Казачье движение П. Иваненко (Петрика) не было инспирировано крымцами – его проблематично системно оценить, игнорируя сложную палитру взаимоотношений Москвы и Запорожской Сечи13, Москвы и гетманской старшины. Авторы книги не вполне учитывают динамику менявшегося в худшую сторону положения многочисленных пограничных сообществ под влиянием продвижения России на Юг; негативные реакции таких сообществ (прежде всего, казаков и номадов) ставили под угрозу их лояльность по отношению к Москве и обостряли ситуацию в южном пограничье. Впрочем, в отдельной главе (с. 403–433) уделено внимание различным акторам войны, а также территориям, традиционно мало привлекаемым в историографии для разговора о периферии войны 1686–1700 гг. Можно согласиться с мнением исследователей о том, что процессы в пространстве «буферного» региона тоже вносили вклад в формирование генеральных итогов противостояния сторон (с. 403). В то же время нет нужды видеть во всех походах, например, казаков-старообрядцев Кумы, Аграхани и Кубани проявление «малой войны» против России – их военная и иная активность в разных частях Северного Кавказа имела более разнообразные адаптационные «ритмы», нежели следование в фарватере интересов «крупных» противников Москвы. Многочисленные факты из жизни этих казаков ранее получили освещение в новейшей российской и зарубежной историографии 2000-х гг.14 Ситуация в пограничном пространстве Северного Кавказа до и после заключения мира в 1700 г. представляется более сложной, чем утверждается в книге: её авторы полагают, что Россия придерживалась в регионе сугубо оборонительной стратегии, перестав вести переговоры о переходе на службу подданных Гиреев и Османов, а целью Крыма было покончить с присутствием России в регионе (с. 432). Ведь и Крымское ханство, и Османская империя тогда перешли к сдержанной пограничной политике, к ограничению набеговой активности своих подданных, к налаживанию взаимовыгодного пограничного диалога с новыми российскими региональными властями. Подробнейшее освещение в книге получили кампании на днепровском и азовском направлениях в 1695 и 1696 гг., выяснен состав лиц и мотивы активизации военных усилий России. В последние годы эта крупная и далеко не решённая проблема получает новое перспективное освещение15. Как и многие другие историки, авторы монографии оправданно уделили внимание личной роли Петра I в определении планов будущей кампании, а также связи принятого решения с военно-дипломатическими практиками предыдущего периода. Однако, несмотря на верное суждение, что днепровский театр стал основным 13 Грибовский В. В. «Ханская Украина» // Казачество в тюркском и славянском мирах. Казань, 2018. С. 270. 14 Боук Б. М. К истории первого Кубанского казачьего войска: поиски убежища на Северном Кавказе // Восток (Oriens). 2001. № 4. С. 30–38; Сень Д. В. Казаки Крымского ханства: начальный этап складывания войсковой организации и освоения пространства (1690-е гг. – начало XVIII в.) // Тюркологический сборник 2009–2010: Тюркские народы Евразии в древности и Средневековье. М., 2011. С. 289–320; Сень Д. В. Из «вольных» казаков – в поданные крымских ханов: казачьи сообщества Дона и Кавказа в конце XVII – начале XVIII вв. // Восток (Oriens). 2011. № 5. С. 46–54. 15 Петрухинцев Н. Н. «Восточный проект» Петра I… С. 370–374; Аваков П. А. «Азовский проект»… С. 169–190. 8
в 1695 г. (с. 303), бóльшая часть главы отведена первому Азовскому походу, при этом роли украинских казаков в захвате османских крепостей на Днепре внимания уделено недостаточно16. Соглашусь, что несмотря на неудачу первого Азовского похода (хотя в историографии справедливо говорится о важности для России захвата Каланчей и строительства Сергиева), кампания 1695 г. активизировала российскую внешнюю политику (с. 318–332). События второго Азовского похода рассмотрены в книге на широком фоне донского театра военных действий, включая оперативные мероприятия турок-османов и их союзников по укреплению Азова в преддверии очередной осады. Достаточно взвешенно проанализированы формы и методы действий как осаждённых, так и осаждающих, их количественный состав; существенно уточнён мой вывод о роли казаков-ахреян в затягивании турками-османами сдачи крепости. Критически оценена роль российской галерной эскадры в блокировании Азова с моря17. К сожалению, военно-политические итоги второго Азовского похода описаны весьма сжато (с. 362–364), почти не отмечено влияние столь крупного события на настроения в Крыму, на формирование новых элементов политики России по отношению к кубанским ногайцам, на развитие её пограничной дипломатии с региональными властями Крымского ханства и Османской империи. Не стали авторы и вдаваться в дискуссию о связи целей Азовских походов с планами России построить военно-морской флот и добиваться выхода к Чёрному и Азовскому морям. В соответствующей части книги, по сравнению со статьей 2021 г.18, приведено меньше аргументов, подтверждающих ключевое для России и её союзников значение обороны днепровских городков в 1697 г. Новым словом в науке является раздел о распространении информации и презентации военных событий в публичном пространстве России и европейских государств (с. 434–462). Данная тематика привлекает всё большее внимание специалистов, изучающих информационное пространство (различные формы коммуникации: слухи, почтовую корреспонденцию и газеты, расспросные речи) военных кампаний и народных движений в России. Обсуждаемый труд носит фундаментальный характер, который определяется разработанным и реализуемым авторами системным подходом к сбору и анализу эмпирического материала, установлением общего и частного в истории войны 1686–1700 гг., комплексным анализом механизмов военно-политического планирования и реализации кампаний, внимательным отношением к социальным контекстам военного противостояния. Очевидно, что книге суждена долгая научная жизнь, в том числе и по причине заложенных в неё перспективных идей, необходимых для развития новых направлений изучения внешней политики России последней четверти XVII – начала XVIII в. 16 Станіславський В. В. Участь лівобережного та запорозького козацтва в боротьбі з Османською імперією (за даними неопублікованих епістолярій гетьмана Івана Мазепи 1695–1696 років) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). 2005. Вип. 5. С. 581–585; Игнатьева А. В. К вопросу о потерях украинских казаков Ивана Мазепы во время осады и штурма турецкой крепости Казикермен в 1695 г. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2013. № 1(13). С. 213–223. 17 См. другую точку зрения: Аваков П. А. «Азовский проект»… С. 211–213. 18 Гуськов А. Г., Шамин С. М. Оборона днепровских городков в 1697 году – ключевой эпизод русско-турецкой войны 1686–1700 годов // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. История. Политология. Социология. 2021. № 3. С. 27–35. 9
Татьяна Базарова. Русско-турецкая война 1686–1700 гг.: походы и дипломатия Tatiana Bazarova (Saint Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences). The Russian-Turkish War of 1686–1700: campaigns and diplomacy DOI: 10.31857/S2949124X24020025, EDN: HKIVFC Недавно отмеченное 350-летие со дня рождения Петра Великого вызвало в российском обществе значительный всплеск интереса как к биографии первого российского императора, так и к его государственной деятельности. Петровские преобразования ознаменовали отход от устоявшихся традиций и показали дальнейшие пути развития общества и государства. Круглая дата стала для историков прекрасным поводом по-новому взглянуть на эпоху, оценить вклад предшественников и дать иные оценки событиям как прекрасно изученным, так и малоизвестным. Практически вся история царствования Петра Великого – это история войн. Не случайно основной вектор петровских реформ был направлен на преобразование армии, создание военно-морского флота и ориентированной на их потребности промышленности. Современные исследователи справедливо называют Россию петровской эпохи военно-фискальным государством19. Наибольшее внимание учёные уделяют главному военному конфликту, в котором участвовала петровская Россия, Северной войне (1700–1721). Это, безусловно, оправдано, поскольку именно успехи в войне со Швецией позволили России нарушить уже сложившийся баланс сил в Европе и уверенно войти в число великих держав. Продолжавшаяся 14 лет война с Османской империей (1686–1700) стала вторым по продолжительности конфликтом России петровской эпохи и самым длительным в истории русско-турецких взаимоотношений. Тем не менее нужно констатировать, что для историков она «оставалась в тени» Северной войны, являлась только преддверием будущих великих событий. С вступлением России в боевые действия против Швеции русские интересы сместились в сторону Западной Европы, события на южных рубежах государства в политике Петра отошли на второй план. Неудача в следующем военном противостоянии Османской империи (1710–1713) «свела на нет бóльшую часть достижений России на южном направлении» (с. 9)20. К тому же в отечественной историографии с XIX в. сложилась традиция разбивать военные действия на отдельные походы – Крымские (1687, 1689) и Азовские (1695, 1696). В первые походы русская армия отправилась в годы регентства царевны Софьи Алексеевны, вторые пришлись на начало самостоятельного правления Петра Алексеевича. Крымскую и Азовскую кампании разделяет несколько насыщенных политическими событиями лет (стрелецкий бунт и борьба за власть в Кремле). 19 См., например: Нефёдов С. А. Петровские преобразования в контексте теории военной революции // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2023. № 2. С. 82–96. 20 Авторы монографии указывают на неудачу Прутского похода (1711). Между тем ситуацию усугубила недальновидная политика русского правительства, затянувшего выполнение условий Прутского мира. Значительно сильнее ударил по политическому престижу России ознаменовавший завершение конфликта Адрианопольский мирный договор (1713), в который вернулась статья «о крымской даче». 10