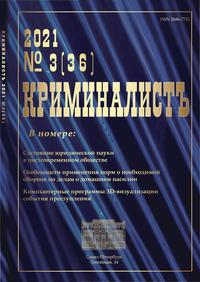КриминалистЪ, 2021, № 3 (36)
научно-практический журнал
Покупка
Новинка
Издательство:
Университет прокуратуры Российской Федерации
Наименование: КриминалистЪ
Год издания: 2021
Кол-во страниц: 102
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
СОБЫТИЯ 55 лет назад, 1 октября 1966 года, I первые слушатели переступили порог I Института усовершенствования следственных работников органов прокураI туры и охраны общественного порядка I при Прокуратуре СССР, созданного на базе Ленинградских курсов переподготовки следователей органов прокуI ратуры Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 декабря 1965 года № 1061, преемником этого Института и является СанктПетербургский юридический инстиImym (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. Однако история Института началась в конце 40-х годов прошлого века. После окончания Великой Отечественной войны, когда Советский Союз приступил к восстановлению народного хозяйства, страну захлестнула волна преступлений. Предстояло предпринять масштабные усилия по обеспечению правопорядка на территории советского государства. Возникла острая необходимость в квалифицированных юридических кадрах. В этой связи во исполнение Постановления ЦК ВКП(б) от 12 апреля 1947 года Распоряжением Совета министров СССР от 17 мая 1947 года в ведущих центрах страны в составе Министерства юстиции СССР были созданы курсы по юридической переподготовке лиц, имевших среднее образование. На этих курсах повышали квалификацию народные судьи, районные прокуроры и их помощники, народные следователи. В Ленинграде 1 августа 1947 года, согласно Приказу Генерального прокурора Союза ССР от 22 июля 1947 года № 797, в здании областной прокуратуры на Литейном проспекте в доме 44 начинают работу одногодичные юридические курсы подготовки прокурорских работников, ставшие отправной точкой в развитии Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. Директором Ленинградских юридических курсов Приказом Генерального прокурора СССР от 8 июля 1947 года № 668 была назначена старший советник юстиции Софья Александровна Мусина, ранее занимавшая должности заместителя прокурора Ленинградской области, прокурора Новгородской области. Преобразование курсов в учебное заведение со статусом института соответствовало задачам органов прокуратуры. В дальнейшем Институт несколько раз менял свое название, но неизменно оставался передовым, востребованным и не имеющим аналогов учебным заведением. Первым директором Института стал Александр Петрович Филиппов. В 70- 80-е годы XX века Институт по существу был не только всесоюзным, но и международным. В нем учились и проходили переподготовку прокуроры и следственные работники из Волгарии, Чехословакии, Венгрии, Польши, Кубы, Монголии, Вьетнама. В конце 1991 года учреждение переходит в ведение Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а в 1992 году переименовывается в Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников прокуратуры Российской Федерации, который возглавил доктор юридических наук, профессор Борис Владимирович Волженкин. Тогда же были осуществлены меры по расширению профиля учебного процесса - кроме следователей на учебу стали направляться прокуроры городов и районов, государственные обвинители и прокуроры, надзирающие за следствием. Продолжение на 3 странице обложки
КРИМИНАЛИСТЪ 2021 № 3 (36) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Издается с 2008 года Санкт-Петербургским юридическим институтом (филиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации Учредитель Университет прокуратуры Российской Федерации Редакционная коллегия Главный редактор А. П. Спиридонов, директор Санкт-Петербургского юридического инс ти тута (филиала) Университета прокуратуры Рос сийской Федерации, доктор юридических наук, профессор Редакционный совет А. П. Спиридонов (главный редактор), доктор юридических наук, профессор; Н. А. Данилова (заместитель главного редактора), доктор юридических наук, профессор; М. А. Григорьева (ответственный секретарь), кандидат юридических наук, доцент; О. А. Гу реева, кандидат юридических наук; А. А. Дор ская, доктор юридических наук, профессор; Е. В. Елагина, кандидат юридических наук, доцент; Д. Ю. Краев, кандидат юридических наук, доцент; Е. Л. Никитин, кандидат юридических наук, доцент; Т. Г. Николаева, доктор юридических наук, профессор; А. А. Сапожков, кандидат юридических наук, доцент; О. В. Челышева, доктор юридических наук, профессор; И. Л. Честнов, доктор юридических наук, профессор; В. С. Шадрин, доктор юридических наук, профессор Адрес редакции: 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный просп., 44 E-mail: kriminalist_institut@mail.ru Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре. Свиде тельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-76805 от 16.09.2019. Включен в Российский индекс научного ци тирования (РИНЦ). Журнал включен в перечень рецензируе мых научных изданий, в которых должны быть опуб ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям: 12.00.01; 12.00.02; 12.00.08; 12.00.09; 12.00.11; 12.00.12. Подписано в печать 30.06.2021. Печ. л. 12,25. Формат 60х84/8. Тираж 1000 экз. (1-й з-д 1—140). Заказ 15/21. Цена 276 р. Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный просп., 44 E-mail: rio-procuror@yandex.ru А. Ю. Захаров, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации; Н. Е. Солнышкина, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Т. А. Ашурбеков, доктор юридических наук; Е. Е. Амплеева, кандидат юридических наук, доцент; И. А. Антонов, доктор юридичес ких наук, профессор; Е. В. Болотина, доктор юридических наук; Н. А. Васильчикова, доктор юридичес ких наук, профессор; И. В. Гончаров, доктор юридических наук, профессор; Л. В. Готчина, доктор юридических наук, кандидат социологических наук, профессор; И. Г. Дудко, доктор юридических наук, профессор; Е. В. Емельянова, доктор юридических наук, профессор; Е. Р. Ергашев, доктор юридических наук, профессор; Г. П. Ермолович, доктор юридических наук, профессор; В. Н. Исаенко, доктор юридичес ких наук, профессор; А. С. Карцов, доктор юридических наук; Н. П. Кириллова, доктор юридических наук; О. Н. Коршунова, доктор юридических наук, профессор; Э. К. Кутуев, доктор юридических наук, профессор; В. В. Лавров, кандидат исторических наук, кандидат юри дических наук, доцент; Ю. В. Ми шальченко, док тор юридичес ких наук, доктор экономичес ких наук, профессор; Н. С. Нижник, доктор юридичес - ких наук, кан дидат исторических наук, профессор; М. Ю. Пав лик, доктор юридических наук, профессор; А. Н. По пов, доктор юридичес ких наук, профессор; С. М. Прокофьева, доктор юридичес ких наук, профессор; Е. Н. Рахманова, доктор юридичес ких наук; Р. А. Ро машов, доктор юридических наук, профессор; Е. Б. Серова, кандидат юридичес ких наук, доцент; С. А. Смирнова, доктор юридичес ких наук, профессор; Ю. А. Тимошенко, доктор юридических наук; Н. И. Уткин, доктор юридичес ких наук, профессор; Ю. Б. Шубников, доктор юридических наук, профессор; В. Ф. Щепельков, доктор юридических наук, профессор; А. А. Эксархопуло, доктор юридических наук, профессор Ответственность за достоверность сведений в опубликованных материалах несут авторы. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. © Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2021 1 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ Шиханов В. Н. Конструкция единого продолжаемого сбыта наркотических средств или психотропных веществ 43 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ Честнов И. Л. Состояние юридической науки в постсовременном обществе 3 Щепельков В. Ф. Особенности применения норм о необходимой обороне по делам о домашнем насилии 48 Ломакина И. Б. Неопределенность и определенность в постижении правовой реальности 7 КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНОЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО Баркалова Е. В., Ручкин К. В., Серова Е. Б. Актуальные вопросы уголовного преследования за совершение мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий 57 Краев Д. Ю. Квалификация убийства, сопряженного с хищением либо вымогательством наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 13 Медведева А. С. Проблемы разграничения компетенции педагога и психолога как участников уголовного судопроизводства 64 Лавринов В. В. Некоторые вопросы определения предмета контрабанды, предусмотренной статьей 229.1 УК РФ 19 Холопов А. В. Компьютерные программы 3D-визуализации события преступления 70 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС Шкеле М. В., Огарь Т. А. Модели квалификации соучастия в приобретении наркотических средств без цели сбыта 22 Жуков Г. К. Пределы изменения обвинения в судебном разбирательстве: проблемы правоприменения 77 Силкин В. П. Новая редакция статьи 236 УК РФ как проявление деградации уголовного права 27 Михайлов В. В. Проблемы соблюдения пределов судебного разбирательства с участием присяжных заседателей 84 МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ Хромов Е. В. Проблемы квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») 32 Обзор научно-практического семинара «Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации» 92 Шадрин И. А. К вопросу о социальной обусловленности уголовной ответственности за коммерческий подкуп 38 2 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)
КРИМИНАЛИСТЪ. 2021. № 3 (36). С. 3—7 • CRIMINALIST. 2021. № 3 (36). P. 3—7 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ Научная статья УДК 34 СОСТОЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В ПОСТСОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ Илья Львович ЧЕСТНОВ Доктор юридических наук, профессор, ichestnov@gmail.com Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия Аннотация. Автор статьи анализирует состояние юридической науки с позиций постклассической эпистемологии. Основное внимание уделяется вызовам, которые ставит перед юридической наукой постсовременное общество. Основным вызовом признается релятивность научного знания. Изучение связи общества и юриспруденции — важнейшее направление современных научных исследований. Ключевые слова: наука, юридическая наука, релятивность знания Для цитирования: Честнов И. Л. Состояние юридической науки в постсовременном обществе / / Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 3—7. THE STATE OF JURISPRUDENCE IN POSTMODERN SOCIETY Ilya L. CHESTNOV Doctor of Law, Professor, ichestnov@gmail.com St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Offce of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia Abstract. The author analyzes the state of jurisprudence from the standpoint of post-classical epistemology. The main attention is paid to the challenges that the post-modern society poses to legal science. The main challenge is the relativity of scientifc knowledge. The study of the relationship between society and jurisprudence is the most important area of modern scientifc research. Key words: science, jurisprudence, relativity of knowledge For citation: Chestnov I. L. The state of jurisprudence in postmodern society / / Criminalist. 2021. № 3 (36). Р. 3—7. Указом Президента Российской Федера- временной юридической науки, каковы ее ции 2021 год, как известно, объявлен «Годом перспективы в ближайшем и отдаленном бунауки и технологий». Это дает основание дущем. Если использовать количественные задуматься над тем, каково состояние со- методы научного анализа применительно Криминалистъ. 2021. № 3 (36) 3
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ к данному вопросу, то состояние юриспруденции в нашей стране достаточно стабильное: неуклонно растет число научных публикаций, защищаются диссертации, проводятся научные симпозиумы и конференции. В то же время сами по себе количественные показатели ничего не говорят о качестве состояния науки. Поэтому важно попытаться дать именно такую — качественную, или содержательную, — оценку современной российской юриспруденции в контексте общемировых трендов. требованными как никогда технологические знания, прежде всего в области информационных, цифровых процессов. Однако навыки владения компьютером как необходимый аспект современной культуры — это не научное знание. Более того, если «прикладная наука» продолжает достаточно активно развиваться за счет окупаемости инвестиций, то с фундаментальной наукой ситуация совсем не столь радужная. И это весьма тревожный симптом: без «высокой» теории невозможны эффективные технологии и практики. Такого рода парадокс — один из нескольких «вызовов» общества постмодерна современной науке, о чем применительно к юриспруденции речь пойдет ниже. Если обратиться к состоянию современной отечественной юридической науки, то полагаю уместным констатировать, что в ХХI веке в ней появились и активно развиваются достаточно перспективные новые направления, подходы, свидетельствующие о значительных «прорывах» в философии и теории права, истории права и истории политических и правовых учений, в криминологии, в науке уголовного права, в уголовном процессуальном праве и некоторых других научных дисциплинах. Во многом это обусловлено изменением общего состояния мировоззрения нашего общества, когда после жестких идеологических рамок появилась возможность излагать новые неординарные мысли. Среди таких актуальных теоретических разработок назову коммуникативную теорию права А. В. Полякова, интегративное правопонимание, наиболее последовательно и энергично развиваемое В. В. Лазаревым, юридический либертаризм, постмодернистскую криминологию в изложении, прежде всего, Я. И. Гилинского, новую теорию уголовного процесса А. С. Александрова и некоторые другие. Понимаю, что моя оценка является субъективной, основанной на личностных пристрастиях, поэтому далее позволю себе высказаться о состоянии методологии юриспруденции — области, к которой имею профессиональное отношение. Если рассуждать о состоянии современной науки (включая, конечно, и юриспруденцию) с философских позиций — с точки зрения постклассической эпистемологии, которая задает исходные основания для конкретных научных исследований, — то приходится констатировать, что наука в конце ХХ—нач. ХХI века изменила, можно даже сказать утратила свой привилегированный статус. И это касается как ее социального статуса, так и связанного с ним науковедческого. Если ранее, начиная с эпохи Просвещения, а может быть, и еще раньше, наука считалась чрезвычайно престижным занятием (при этом речь идет о социальном статусе науки в общемировом измерении), то сегодня она стала одним из видов человеческой деятельности, не слишком хорошо оплачиваемым и не очень престижным. В эпистемологическом аспекте наука перестала быть носителем экспертного знания, обеспечивающего принятие любого более или менее важного политического решения. Наука сегодня не востребуется властью, о чем с горечью замечали участники XXXI Международной Балтийской криминологической конференции «Социальный контроль над преступностью: что делать?», прошедшей 21—22 июня 2019 года в Санкт-Петербурге [1]. Это связано с тем, что научное знание перестало восприниматься как способное ответить на все вопросы и решить все возникающие проблемы в нашем мире, в том числе дать четкий прогноз, например, динамики преступности или сроков и параметров нового экономического кризиса. При этом необходимо отметить любоНесмотря на появление действительно оригинальных, чрезвычайно перспективных направлений в юриспруденции, состояние последней вызывает озабоченность пытный парадокс: сегодня становятся вос4 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ заинтересованностью власти и общества. Власть (для криминологии представленная преимущественно правоохранительной системой), как утверждает норвежский криминолог, ждет те рекомендации, которые ей — власти — выгодны. Поэтому наука превращается в инструмент «обслуживания сиюминутных интересов государства» [3, с. 166—167]. Распространение рыночных отношений в сферу науки и университетского образования превращает и то, и другое в «магазины или фабрики» [3, с. 167]. В результате утрачивается их автономия, необходимая для развития критического осмысления происходящих в обществе процессов, без чего невозможно адекватное их описание и объяснение. и тревогу у крупных ученых-экспертов. Так, авторы коллективной монографии «Кризис права: история и современность» пришли к «консенсуальному представлению о содержании и смыслах кризиса» [2, с. 7]. Тем самым констатировалось кризисное состояние юридической науки, включая практически все отраслевые юридические дисциплины. «Парадигма кризиса», по мнению авторов солидного научного исследования, проявляется в юриспруденции как «группа эмпирико-социальных фактов, как культурно-исторические тенденции и как характеристики политико-правовой коммуникации» [2, с. 7]. Кризисом «российской государственно-правовой системы» Р. А. Ромашов считает ее состояние «перманентной переходности»; правовое отчуждение называет «индикатором кризиса права» И. Ф. Мачин; «сверхрегулирование» объявляет «симптомом кризиса правовой системы» М. А. Беляев [2]. В качестве наиболее важного внутринаучного вызова, на мой взгляд, следует назвать релятивизм, т. е. относительность знаний, включая критерий их — знаний — научности. Наука, в частности философия, признала ограниченность научного знания. Если гипотеза неисчерпаемости мира верна, то никакое знание не может претендовать на полноту его — мира — постижения. Поэтому существующее в данное время научное знание релятивно, относительно, к тому уровню знаний, который накоплен в соответствующей научной дисциплине на данный момент. Кроме того, научное знание релятивно, относительно, к господствующей картине мира (как научной, так и философcко-мировоззренческой), состоянию общества, прежде всего его культуре. Во многом такого рода оценки связаны с теми вызовами, которые ставит перед юридической наукой эпоха постсовременности. Полагаю уместным подразделить такие вызовы на внешние, социокультурные, и внутренние, юридико-эпистемологические*. К первым относятся политические, экономические, иные социальные, экологические и технические (или технологические), а также природные изменения, которые, несомненно, влияют на общее состояние юридической науки. Сюда же следует отнести не только заинтересованность власти в научных разработках практических задач правовой политики (точнее — политики, которая всегда включает юридическое оформление), но и отношение общества к науке как таковой, что сказывается и на ее — науки — финансировании и социальной востребованности. Об угрозе коммерциализации криминологической науки чрезвычайно интересно рассуждает выдающийся норвежский социолог преступности Н. Кристи. Востребованность той или иной научной дисциплины, по его мнению, сегодня определяется прежде всего социальной (и экономической) Принципиальная неполнота научного знания неизбежно порождает множество точек зрения, подходов к описанию и объяснению любого объекта научного исследования. Полипарадигмальность современной науки, как «релятивизация» знаменитой концепции Т. Куна, — одно из следствий релятивности научного знания. В то же время такая релятивность не означает полной несоизмеримости и равноправия любых идей и представлений**. Среди них всегда есть и бу** О полипарадигмальности науки применительно к криминологии пишет Я. И. Гилинский. При этом он отмечает, что такое положение дел не означает «отказа от познания своего предмета, но предостерегает от поиска и утверждения * В. В. Лазарев классифицирует «вызовы, имеющие отношение к юридической науке», на «природные и социальные». — Лазарев В. В. Избранное последнего десятилетия. М., 2020. С. 45. 5 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ дут более обоснованные и менее адекватные, хотя и те, и другие, очевидно, когда-нибудь будут пересмотрены (в этом проявляется некумулятивность эволюции научного знания, обоснованная Т. Куном, К. Поппером и другими выдающимися философами ХХ века). современным (общест вом postmodernity*), постиндустриальным или информационным социумом. Именно оно определяет основные характеристики постсовременной науки, в том числе юридической [5; 6]. «Передний край» юридической науки как раз и призван изучать то, как трансформирующееся общество детерминирует ее и какое обратное влияние оказывает юриспруденция на изменения, происходящие в обществе. Только такого рода исследования позволят юридической науке быть адекватной социальным изменениям постсовременного общества. Список источников 1. Социальный контроль над преступностью: что делать? : материалы XXXI Междунар. Балтийской криминолог. конф. / Российской гос. педагог. ун-т им. А. И. Герцена ; под ред. Я. И. Гилинского. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ, 2019. 226 с. ISBN 978-5-80642724-4. 2. Кризис права. История и современность : монография / Л. Е. Лаптева, Р. А. Ромашов, И. Л. Честнов [и др.] ; под ред. В. В. Денисенко, М. А. Беляева, Е. Н. Тонкова. Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. 514 с. (Толкование источников права). ISBN 978-5-906910-99-8. Релятивность научного знания напрямую связана с его контекстуальностью — зависимостью от исторического и социокультурного контекста, прежде всего от состояния общества, и конвенциональностью. Последний аспект является принципиально важным в трактовке истины как регулятивного основания научной деятельности на протяжении последних нескольких столетий. Сегодня радикальные постмодернисты призывают к отказу от этой исчерпавшей себя (по их мнению) категории. На мой взгляд, истина как идеал научного исследования может быть сохранена при отказе от корреспондентской теории истины в пользу либо прагматистской концепции, либо конвенциональной. Признание экспертным научным сообществом результатов научного исследования никто — даже самые рьяные поборники «методологического анархизма» в духе П. Фейерабенда — не отменял и не в состоянии отменить. Поэтому согласимся с мнением Я. И. Гилинского: «Как известно, “есть много истин, но нет Истины”» [4, с. 120]. 3. Кристи Н. Приемлемое количество преступлений / пер. с англ. Е. Матерновской ; общ. ред. и вступ. ст. Я. И. Гилинского. Санкт-Петербург : Алетейя, 2006. 184 с. ISBN 5-89329-902-7. 4. Гилинский Я. И. Очерки по криминологии. Санкт-Петербург : Алеф-пресс, 2015. 140 с. ISBN 978-5-905966-60-6. 5. Гилинский Я. И. Криминология постмодерна (неокриминология). Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. 136 с. (Либерализация права: от репрессий к милосердию). ISBN 978-5-00165-249-6. 6. Честнов И. Л. Теория права в эпоху постпостмодерна / / В поисках теории права : коллективная монография / под ред. Е. Г. Самохиной, Е. Н. Тонкова. Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. (Толкование источников права). ISBN 978-5-00165194-9. С. 47—59. Из признания относительности научного знания вытекает релятивность объекта научного исследования. Право с этой точки зрения не есть некая данность, а результат конвенционального признания некоторых социальных явлений юридически значимыми. Более того, право в таком случае не существует «само по себе», но всегда вместе с другими социальными феноменами — культурой, психикой, политикой, экономикой и т. д. Однако это уже тема для специального научного исследования. 7. Лазарев В. В. Избранное последнего десятилетия. Москва : Норма, 2020. 760 с. ISBN 978-500156-111-8. Подводя итог, полагаю возможным утверждать: состояние юридической науки определяется прежде всего состоянием общества, в котором мы живем. Оно именуется пост* Полагаю, следует различать постмодерн (или «постмодерность») как характеристику общества и постмодернизм — направление в культуре. Однако сегодня очевидно, что общество не существует вне культуры, поэтому данные термины часто используются как синонимы. “единственно верной” теории…». — Гилинский Я. И. Очерки по криминологии. СПб., 2015. С. 120. 6 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)
КРИМИНАЛИСТЪ. 2021. № 3 (36). С. 7—12 • CRIMINALIST. 2021. № 3 (36). P. 7—12 References 4. Gilinskij YA. I. Ocherki po kriminologii. Sankt-Peterburg : Alef-press, 2015. 140 s. ISBN 9781. Social’nyj kontrol’ nad prestupnost’yu: chto 5-905966-60-6. delat’? : materialy XXXI Mezhdunar. Baltijskoj 5. Gilinskij YA. I. Kriminologiya postmoderna kriminolog. konf. / Rossijskoj gos. pedagog. un-t im. A. I. Gercena ; pod red. YA. I. Gilinskogo (neokriminologiya). Sankt-Peterburg : Aletejya, 2021. 136 s. (Liberalizaciya prava: ot repressij k miloserSankt-Peterburg : Izd-vo RGPU, 2019. 226 s. ISBN diyu). ISBN 978-5-00165-249-6. 978-5-80642724-4. 6. CHestnov I. L. Teoriya prava v epohu post2. Krizis prava. Istoriya i sovremennost’ : monopostmoderna / / V poiskah teorii prava : kollekgrafya / L. E. Lapteva, R. A. Romashov, I. L. CHesttivnaya monografya / pod red. E. G. Samohinoj, E. nov [i dr.] ; pod red. V. V. Denisenko, M. A. Belyaeva, N. Tonkova. Sankt-Peterburg : Aletejya, 2021. (TolkE. N. Tonkova. Sankt-Peterburg : Aletejya, 2018. ovanie istochnikov prava). ISBN 978-5-00165-194-9. 514 s. (Tolkovanie istochnikov prava). ISBN 978-5906910-99-8. S. 47—59. 3. Kristi N. Priemlemoe kolichestvo prestuplenij 7. Lazarev V. V. Izbrannoe poslednego desyati/ per. s angl. E. Maternovskoj ; obshch. red. i vstup. letiya. Moskva : Norma, 2020. 760 s. ISBN 978-5st. YA. I. Gilinskogo. Sankt-Peterburg : Aletejya, 2006. 00156-111-8. 184 s. ISBN 5-89329-902-7. Научная статья УДК 34 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОСТИЖЕНИИ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ Ирина Борисовна ЛОМАКИНА Доктор юридических наук, профессор, lomakina7311@gmail.com Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия Аннотация. В статье рассматриваются категории определенности и неопределенности применительно к двум эпистемологическим традициям. Отмечается, что в самом общем виде их представляют картезианская традиция (абстрактно-гносеологическая, рассудочно-рациональная) и релятивистская (эмпирическая, скептическая). Релятивистская традиция апеллирует к иррациональному восприятию мира и постижению реальности посредством чувственного опыта и интуиции. Понятийный аппарат этой традиции отличается от строгих логических построений и схем. Ее кредо — отказ от системности и определенности. В статье утверждается, что право не сводится только к субъективным правам человека, как не сводится оно и к догме. Признание как относительности знания о праве, так и относительности самого права являет собой более адекватную стратегию познания и понимания в рамках современного гуманитарного знания. Ключевые слова: право, релятивизм, позитивное право, неопределенность, определенность, традиция, антрополого-правовой подход Для цитирования: Ломакина И. Б. Неопределенность и определенность в постижении правовой реаль ности / / Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 7—12. UNCERTAINTY AND CERTAINTY IN THE COMPREHENSION OF LEGAL REALITY Irina B. LOMAKINA Doctor of Law, Professor, lomakina7311@gmail.com St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Offce of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia Abstract. The article deals with the categories of certainty and uncertainty in relation to two epistemological traditions. It is noted that in the most general form they are represented by Cartesian (abstract-epistemological, rational) and relativistic (empirical, skeptical). The relativistic tradition appeals to the irrational 7 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ perception of the world and the comprehension of reality through sense experience and intuition. The conceptual apparatus of this tradition differs from strict logical constructions and schemes. Its credo is the rejection of consistency and certainty. The article asserts that the law is not reduced only to subjective human rights, just as it is not reduced to dogma. The recognition of the relativity of both the knowledge of law and the relativity of law itself is a more adequate strategy for cognition and understanding within the framework of modern humanitarian knowledge. Key words: law, relativism, positive law, uncertainty, certainty, tradition, anthropological and legal approach For citation: Lomakina I. B. Uncertainty and certainty in the comprehension of legal reality / / Criminalist. 2021. № 3 (36). Р. 7—12. Философская категория «неопределен- тину мира, в которой нет места иррационость» связана с категорией «определен- нальным, чувственным, неопределенным ность». Любая определенность таит в себе и случайным аспектам действительности. неопределенность, а неопределенность Действительность при таком подходе как содержит в себе определенность. Рассмат- бы «втискивается» в заданные параметры, ривая в таком ракурсе категории «опреде- упаковывается в «красивую» или «некраленность» и «неопределенность», следует сивую» обертку, в зависимости от идеолоотметить их собственную релятивность. гических предпочтений, и преподносится Их собственная релятивность делает реля- как картина, в которой согласно сюжетной тивной любую реальность, в которой они линии все статусные роли четко предоприсутствуют. пределены, а сюжет предельно ясен и не Рассмотрим две эпистемологические тра- предполагает иных прочтений. Достаточдиции, в которых категории «определен- но вспомнить античную рационалистиность» и «неопределенность» играют разные ческую традицию, представленную Парроли, подчас противоположные. В самом об- минидом, Платоном, Аристотелем и др. щем виде эти две традиции могут быть пред- Увлеченность категоризацией, построение ставлены как картезианская (абстрактно-гно- четко определенных, заданных, логически сеологическая, рассудочно-рациональная) непротиворечивых конструкций и теорий и релятивистская (эмпирическая, скептиче- сформировали именно такое видение или, ская). Последнюю лишь отчасти можно счи- вернее, «отражение» и «выведение» всех сотать научной в классическом смысле, так как циальных феноменов, в том числе правовых она апеллирует к иррациональному (чув- [1, с. 23]. В основе такого ракурса понимаственному) восприятию мира и постижению ния действительности лежит ретроспективреальности посредством чувственного опы- ная атрибуция, т. е. объяснение причин, та и интуиции. Понятийный аппарат этой которые как бы «достраиваются» или теотрадиции отличается от строгих логических ретически подгоняются с учетом имеющепостроений и схем [1, с. 23]. Ее кредо — отказ гося опыта. Дальнейшее развитие этой траот системности и определенности. диции связано с творчест вом Канта, Фихте, Итак, первую олицетворяют рассудоч- Маркса, позже Гуссерля, а аналитические ные, рациональные построения. В них концепции познания лишь дополняют и субъект и объект разделены, а знание вы- развивают ее новыми идеями и теоретичесводится, или «отражается», в совокупности, кими конструкциями. Эти теоретические образуя «идеал-конструкты», нарративы, построения в большей степени выступали вписываемые в некое логически непроти- за определенность, хотя многие в них видеворечивое целое (теорию). Целостность, ли диалектику определенности и неопреопределенность, логическая связанность и деленности. непротиворечивость, выводимость содер- Любое развитие социальных сфер общежания из исходного основания по стро- ства увязывалось, как правило, с научно-техгим логико-методологическим правилам ническим прогрессом. Базовыми категории принципам [2, с. 26] сформировали кар- ями выступали концепты определенности, 8 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ Все классические концепции в той или иной степени претендовали и претендуют на определенность, на достоверность полученных результатов, неопределенность и случайность при этом не берутся во внимание либо спекулятивно встраиваются в заранее заданные границы. Удаляя лишнее и случайное, неопределенное и иррациональное из исследуемого объекта, со временем такие теоретические построения вырождались в догматические учения, мало чем отличающиеся от религиозных догматов, в которых все заранее предопределено и согласно которым, следуя известной дорогой, можно прийти в царство Божие, в коммунизм или, на худой конец, в правовое государство. В наибольшей степени «вирусу определенности» подвержены юридический позитивизм и юснатурализм, т. е. классические типы правопонимания, претендующие на верифицированность знания. абсолютности, объективности, логической причинности (детерминанты развития). Так формировались нарративы, в которых различные чувства проявляли себя по всему чувственно-эмоциональному диапазону, от индивидуализма до холизма, от прагматизма до альтруизма, от любви до даже ненависти, хотя эмоциональная составляющая в расчет этой традицией не бралась [1, с. 25]. Фундаментальность исходных посылов задавала определенность, которая отчетливо проявлялась в экономике, политике и праве. Определенность должна была присутствовать во всем, и в социальной действительности, и в ее осмыслении. Такую действительность можно было моделировать, упрощать и, конечно же, прогнозировать (предсказывать) будущее. Аксиоматичность исходных начал предопределяла строгую логичность теоретических конструкций [2, с. 28]. Так, классические типы правопонимания — юснатурализм, позитивизм и социология права, выстраивали право в соответствии с исходными базовыми детерминантами. Юснатурализм в качестве детерминанты выбрал идею свободы, которая через свободную волю субъекта (индивида) предопределила субъективные права, легшие в основу так называемого естественного права, которое, в свою очередь, стало критерием «правильности» позитивного права. Юридический позитивизм (этатизм) в качестве исходного посыла взял волю суверена, объективированную в норме права, отсюда право — сначала приказ государя, а несколько позже — функция государства, выраженная в официальных документах, санкционированных и обеспеченных силой государственного принуждения; социология права (здесь вариаций достаточно много) — интерес, конфликт, классовая борьба, социетальность, социальный контроль и пр. В зависимости от того, какое основание берется в качестве исходного посыла, выстраивается право как нормативная регулятивная система, призванная регулировать социально значимые отношения в той или иной сфере. Отсюда выстраивается и облик права, и его функциональная природа, и определение как содержательная квинтэссенция его сущностных черт. Вторая научная традиция — релятивистская (эмпирическая, скептическая). Как утверждалось в ранее опубликованной нашей статье [2], релятивистская традиция, в отличие от рационально-рассудочной, исходит из априорной неопределенности знаний о действительности. Истоки этой традиции усматриваются в античности, и прежде всего в творчестве софистов. «Человек есть мера всех вещей…», — утверждал в свое время Протогор. Из этого утверждения следует то, что основой познания может быть текучая чувственность, не отражающая объективных явлений. Релятивистами были и скептики. Обнаруживая неопределенность знаний, зависимость их от исторических условий процесса познания, скептицизм акцентировал внимание на недостоверности всякого знания вообще. В этой связи небезын тересны взгляды борца с догмой Секста Эмпирика. Он в высшей степени точно сформулировал проблему неопределенности знаний об исследуемой действительности. Предложив взамен определенности неопределенность, Секст Эмпирик, по сути, провозгласил отказ от всякой уверенности, истинности и выводимости знания [3, с. 249]. Среди сохранившихся его работ можно упомянуть трактат «Adversos Mathematicos» («Против математиков», иногда переводят 9 Криминалистъ. 2021. № 3 (36)