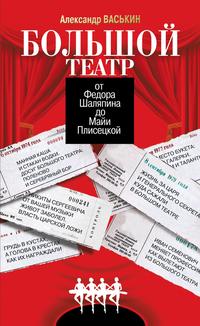Большой театр от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой
Покупка
Тематика:
Театр
Издательство:
Мол.гвардия
Год издания: 2021
Кол-во страниц: 657
Возрастное ограничение: 16+
Дополнительно
Вид издания:
Научно-популярная литература
Уровень образования:
Дополнительное образование
ISBN: 978-5-235-04434-0
Артикул: 758814.02.99
Новая книга Александра Васькина посвящена главному театру нашей страны — Большому и охватывает более чем столетие, начиная с эпохи Федора Шаляпина. Как попадали в театр и как из него уходили, как репетировали и ставили спектакли, как работали и отдыхали в квартирах и на дачах, чем болели и лечились, сколько зарабатывали и куда тратили, как выезжали на гастроли — эти и другие нюансы повседневной жизни вы найдете на страницах книги. Жизнь знаменитых певцов и артистов балета, известных дирижеров и музыкантов, главных режиссеров и художников, простых суфлеров и гримеров и даже зрителей из партера, царской ложи и галерки — все переплелось в этой необычной книге. А еще читатели узнают, кто такие «моржи», «сырихи» и «первачи», что означает «протырка», «кидон» и «щетина сцены», кто такие Вишня и Невыносимонов и как космические ракеты «бороздили» Большой театр. Сообщаемые автором факты послужат для многих читателей откровением. Издание продолжает тему, начатую Александром Васькиным в прежних книгах этой серии, — о Москве времен Хрущева и Брежнева и советской богеме.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Александр ВАСЬКИН от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой МОСКВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 2021
УДК 792.5(092)
ББК 85.335.413(2=411.2)-8
В 19
знак информационной
продукции
16+
© Васькин А. А., 2021
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2021
ISBN 978-5-235-04434-0
Предисловие КАК КОСМИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ «БОРОЗДИЛИ» БОЛЬШОЙ ТЕАТР В июле 1974 года в аэропорту канадской столицы царило необычное оживление. Сотни людей с тюками и чемоданами выстроились в длинную очередь на таможенный досмотр, на несколько часов нарушив привычную работу воздушной гавани. Почти у каждого из стоявших багаж весил ровно 20 килограммов — в противном случае пришлось бы доплачивать. И все же у нескольких пассажиров обнаружилось превышение допустимой нормы, один из них — видный мужчина с приятным голосом — все пытался что-то объяснить угрюмому таможеннику на ломаном английском языке, тыча ему под нос круглый золотистый значок. Таможенник отрицательно крутил головой, показывая, в свою очередь, металлический жетон на своей форме. Продолжалось это довольно долго, из очереди уже слышались недовольные возгласы. Со стороны могло показаться, что один пытается всучить другому значок в подарок, а тот отказывается (или просто не хочет меняться, потому что собирает не значки, а марки). Но все было наоборот. На этом значке, болтающемся на красно-синей колодочке, читались слова: «Народный артист РСФСР». Его обладатель — известный певец, солист Государственного академического Большого театра — уговаривал таможенника: «Ну неужели я, народный артист, не имею права на лишние два килограмма? Это все для родственников, 6
для мамы с папой. Я на правительственных концертах в Кремле пою, я лауреат международных конкурсов!» Таможенник, мало что понимавший из этой речи, изобилующей всякого рода советизмами (разве что слово «Кремль» его не смутило, — но на Брежнева певец похож не был), стоял на своем: нельзя и всё — инструкция! Сценка эта — не выдумка, а вполне реальная история из повседневной жизни труппы Большого театра, в то время главного театра страны, артисты которого разъезжали по всему миру не только с целью демонстрации достижений советского искусства, но и для пополнения государственного бюджета, добывая валюту для казны. А зарабатывал театр много, под стать своему названию и государственному статусу — это был крупнейший репертуарный театр в мире, общее число сотрудников которого достигало порядка трех тысяч человек. Конечно, всех их вывезти на гастроли не представлялось возможным, но все равно выезжало много. Достаточно сказать, что только лишь в одной очереди в канадском аэропорту стояли 400 человек, в том числе хор (всуе именуемый «хорьё»), солисты которого хвастались тем, что освоили на гастролях «бараний язык» — имелись в виду консервы, привезенные с собой из Москвы. Место съеденных консервов в чемоданах не пустовало: отдавая большую часть заработка государству, артисты умудрялись «кое-что» привозить и для себя — одежду, продукты и все, что было дефицитом в ту эпоху. Будучи людьми бывалыми, гастролеры ясно усвоили правила перевозки через границу личных вещей. Например, в Шереметьеве существовало четкое правило: выезжающие советские граждане имеют право ввезти обратно ровно столько же багажа, сколько вывезли. И потому вывозили как можно больше. Но что можно было вывезти тогда? Икру? Водку? Нет, соль. Да, обыкновенную поваренную соль — стратегический продукт, обычно пропадавший с полок магазинов перед очередной денежной реформой. Солью, спичками, сахаром советские люди запасались всегда вне зависимости от профессии, будь ты актер или заводской слесарь. Пользуясь тем, что багаж тогда еще не просвечивали, пачками с солью забивали чемоданы, чтобы потом, пройдя паспортный контроль, высыпать ее родимую в унитаз в туалете аэропорта. А кто-то брал с собой гантели или 7
блин от штанги — чтобы меньше места занимали. Уборщицы Шереметьева жаловались: мало того, что после Большого театра приходилось драить от этой соли туалеты (некоторые артисты очень неаккуратно открывали пачки, просыпая мимо унитаза), так еще и гантели за ними убирай. Отсюда, кстати, и пошло широко известное среди уборщиц выражение — «съесть пуд соли». Шутка. Зато как приятно было везти обратно (через то же Шереметьево) набитые импортными шмотками чемоданы — на перепродаже одних только джинсов или женских колготок можно было неплохо заработать, вот так съездишь пару раз, глядишь, и первый взнос на кооперативную квартиру соберешь. «Шерше ля фам», — как говорят французы. А их, женщин, и искать не надо, сами набегут, так как колготок этих всегда не хватало (в ЦК КПСС существовала специальная комиссия по снабжению населения женскими колготками во главе с товарищем Капитоновым И. В.). Вот почему так важно было для артистов иметь возможность выезда за границу, бороздя просторы планеты, они возвращались в родную страну радостными, поджарыми и оптимистично настроенными на следующие гастроли. Выступления Большого за границей всегда активно освещались иностранной прессой, положительные отклики перепечатывались в советских газетах (еще Дягилев придумал скупать парижских журналистов во время своих «Русских сезонов»). Народу с утра до вечера трезвонили, что «зрители Метрополитен-оперы двадцать минут не отпускали со сцены артистов Большого» или: «С восторгом встретила французская публика балетную труппу ГАБТ СССР, в очередной раз доказавшую, что советское искусство находится на недосягаемой высоте». Все это и отразилось в сознании народа соответствующими фразами: «Космические ракеты бороздят Большой театр» и «В области балета мы впереди планеты всей». Вынесенная в название предисловия фраза из популярной кинокомедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» очень точно характеризует место Большого театра в системе культурных ценностей советского человека. Вложенная в уста простого гражданина — «алкоголика, тунеядца и хулигана», осужденного 8
на 15 суток, — она ярко выражает оскомину, образовавшуюся от постоянного присутствия Большого театра в повседневной жизни эпохи. Отношение к нему не только как музыкально-драматическому учреждению, но и «национальной гордости страны» — отличному средству пропаганды — поставило его в ряд других столь же весомых достижений наряду с полетом Гагарина, великими стройками коммунизма, рекордной выплавкой чугуна и стали на душу населения и т. д. Не зря же прораб-болтун в исполнении Михаила Пуговкина, проводя своеобразную политинформацию для тунеядца Феди, валит все в кучу — и космические корабли, и «тружеников Большого балета, которым рукоплещут все континенты». Желая усилить впечатление, он лично демонстрирует Феде свое танцевальное мастерство, отбивая чечетку и вызывая тем самым неподдельный интерес последнего. Превращение Большого театра в эталон высокого искусства, которое несут в массы самые лучшие в мире певцы, артисты балета, дирижеры и режиссеры, началось задолго до эпохи оттепели, на исходе которой снималась упомянутая кинокомедия. Еще с начала 1930-х годов по радио каждую неделю в определенный день (по вторникам) велась прямая трансляция из Большого театра. Так можно было прослушать весь репертуар, оперу или балет. Слушали не только в коммунальных квартирах, но и на улицах — черные репродукторы были установлены повсеместно. Просвещение не заставило себя ждать — имена солистов театра знали назубок даже те, кто не слушал специально, а шел мимо, с родного завода, со смены в пивную. Слова из арий распевали под сурдинку («Кто может сравниться с Матильдой моей?»), не всегда угадывая, из какой это, собственно, оперы. Антонина Нежданова, Надежда Обухова, Валерия Барсова, Максим Михайлов, Александр Пирогов, Марк Рейзен, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Надежда Шпиллер, Вера Давыдова, Мария Максакова, Павел Лисициан, Иван Петров — вот далеко не полный список артистов, с которыми принято связывать так называемый «золотой век» Большого театра. Со всей страны в труппу собирали лучших артистов, бывало, что и против их воли. Не имели значения ни возраст, ни даже 9
образование — главное, чтобы голос звучал хорошо. Вот почему в биографиях некоторых известных певцов (особенно первой половины ХХ века) место храма занимает консерватория, где началась их вокальная карьера, продолжившаяся затем в Большом театре. Система отбора артистов позволяла достичь высокого уровня исполнительского мастерства, приучив к этому ожиданию и публику. Солист Большого театра обретал не только все положенные привилегии (как тот сыр, который в масле катается), но и статус государственного певца. Свою роль в укреплении уверенности, что лучше театра в мире нет, сыграл и железный занавес. Десятки лет кряду «москвичи и гости столицы» (штамп советской эпохи) ходили в Большой на одни и те же спектакли, превратившиеся в канонические. Смотрели любимые оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Иван Сусанин» и «Борис Годунов», «Садко» и «Хованщина», «Кармен» и «Аида», «Травиата» и «Риголетто» и другие. Однажды поставленная опера демонстрировалась зрителям в одной и той же версии и тридцать, и пятьдесят лет, и подавалась в качестве примера для подражания в остальных театрах Советского Союза. Несмотря на это, очереди в кассы Большого театра стояли немалые, так же как в ГУМ и ЦУМ, стояли за тем, что давали. Особого выбора у прорвавшегося к кассе потенциального зрителя не было. К билетам на известные спектакли полагался довесок — билеты на неходовые советские оперы. На каждом спектакле с участием народных любимцев, в основном лирических теноров, в зале присутствовали их поклонницы — «сырихи» (лемешистки и козловитянки). Доходя до крайностей, они соперничали между собой в желании как можно выразительнее обозначить любовь к своим кумирам, ездили за ними по всей стране, а фотографиями увешивали квартиру. Немало талантливых артистов было и в балетной труппе. Чудом сохранившаяся русская балетная школа, созданная еще Александром Горским и Мариусом Петипа, давала свои плоды. Не зря же иностранные туристы так стремились в Большой театр, именно на балет, чаще всего это было «Лебединое озеро», превратившееся с годами в спектакль государственного значения, в котором танцевали лучшие балерины — Галина Ула10