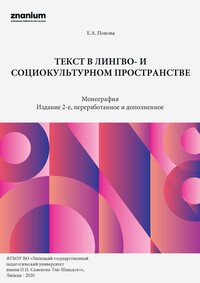Текст в лингво- и социокультурном пространстве
Покупка
Тематика:
История литературы
Издательство:
ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского
Автор:
Попова Елена Александровна
Год издания: 2020
Кол-во страниц: 232
Возрастное ограничение: 16+
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Профессиональное образование
ISBN: 978-5-907335-40-0
Артикул: 835385.01.99
Монография посвящена различным аспектам анализа важнейшего объекта лингвистики антропоцентризма - текста. В работе представлен анализ текстов произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, других русских писателей и поэтов, а также книги немецкого филолога В. Клемперера, которая рассматривается как предыстория такого активно развивающегося направления современного языкознания, как политическая лингвистика. Особое внимание в монографии уделяется анализу произведений, являющихся прецедентными текстами региональной направленности и образующих Провинциальный (Липецкий) текст русской литературы. Монография адресована широкому кругу филологов: русистам, вузовским преподавателям, учителям-словесникам, аспирантам (направление подготовки «Языкознание и литературоведение», профиль «Русский язык») и студентам-филологам (уровень бакалавриата: направление подготовки «Педагогическое образование», профили «Русский язык и литература», «Русский язык и английский язык», «Филологическое образование и дополнительное образование (в области медиаобразования)», «Филологическое образование и дополнительное образование (работа с одаренными детьми)», «Филологическое образование и инновационная деятельность учащихся», «Русский язык»; уровень магистратуры: направление подготовки «Педагогическое образование», профили «Современное лингвистическое образование», «Языковое образование» и под.), а также всем тем, кто интересуется проблемами филологии.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 44.03.01: Педагогическое образование
- 45.03.01: Филология
- 45.03.02: Лингвистика
- 45.03.99: Литературные произведения
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Е.А. Попова ТЕКСТ В ЛИНГВО- И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Монография Издание 2-е, переработаннное и дополненное Липецк – 2020
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ Кафедра русского языка и литературы Е.А. Попова ТЕКСТ В ЛИНГВО- И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Монография Издание 2-е, переработанное и дополненное Липецк – 2020
УДК 80 ББК 81.055.52 П 58 Печатается по решению кафедры русского языка и литературы ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Протокол №3 от 25 ноября 2020 г. Попова, Е.А. Текст в лингво- и социокультурном пространстве: монография / Е.А. Попова. – Изд-е 2-е, перераб. и доп. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 232 с. – Текст непосредственный. ISBN 978-5-907335-40-0 Монография посвящена различным аспектам анализа важнейшего объекта лингвистики антропоцентризма – текста. В работе представлен анализ текстов произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, других русских писателей и поэтов, а также книги немецкого филолога В. Клемперера, которая рассматривается как предыстория такого активно развивающегося направления современного языкознания, как политическая лингвистика. Особое внимание в монографии уделяется анализу произведений, являющихся прецедентными текстами региональной направленности и образующих Провинциальный (Липецкий) текст русской литературы. Монография адресована широкому кругу филологов: русистам, вузовским преподавателям, учителям-словесникам, аспирантам (направление подготовки «Языкознание и литературоведение», профиль «Русский язык») и студентам-филологам (уровень бакалавриата: направление подготовки «Педагогическое образование», профили «Русский язык и литература», «Русский язык и английский язык», «Филологическое образование и дополнительное образование (в области медиаобразования)», «Филологическое образование и дополнительное образование (работа с одаренными детьми)», «Филологическое образование и инновационная деятельность учащихся», «Русский язык»; уровень магистратуры: направление подготовки «Педагогическое образование», профили «Современное лингвистическое образование», «Языковое образование» и под.), а также всем тем, кто интересуется проблемами филологии. УДК 80 ББК 81.055.52 П 58 РЕЦЕНЗЕНТЫ; В.А. Бурцев – доктор филол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»; О.С. Шурупова – доктор филол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» ISBN 978-5-907335-40-0 © ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 2020 © Е.А. Попова, 2020
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ КАК ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О ЯЗЫКЕ (вместо введения) Человек – это тот центр, через который проходят координаты, определяющие предмет, задачи, методы, ценностные ориентации современной лингвистики. Сегодня трудно представить тот период развития языкознания, когда изучение языка проходило без учета человеческого фактора, а лингвистика была «бесчеловечной». Признание человека тем феноменом, который определяет и консолидирует науку о языке, произошло благодаря исканиям многих поколений лингвистов, начиная с В. фон Гумбольдта. За всю историю лингвистики никто не пытался опровергнуть гумбольдтовское понимание языка как «мира, лежащего между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [13, c. 304], как «не просто внешнего средства общения людей, поддержания общественных связей», но средства, «заложенного в самой природе человека и необходимого для развития его духовных сил и формирования мировоззрения» [13, c. 51]. На первый взгляд, принятие этих положений делает невозможным изучение языка без модуса его существования – человека. Однако «магистральный путь лингвистики <...> изначально не предполагал подобного подхода. Почему? Прежде всего потому, что ценностные ориентации ученых были совершенно иными. Одно дело – соглашаться с Гумбольдтом и Бенвенистом. И совершенно иное дело – считать, что именно эти вопросы являются самыми важными, ценными, теми, которым стоит посвящать жизнь. ХХ век в лингвистике, да и в других гуманитарных науках прежде всего ценил “строгость”. В соответствии с такими установками отношение “внутренний мир человека – язык” закономерно оставалось за пределами того, что полагалось доступным для подлинно научного подхода» [36, c. 58]. Путь к осознанию того, что антропоцентризм языка требует антропоцентрически ориентированной лингвистики, был достаточно долгим и сложным. Одним из первых, кто в системоцентричное описание языка, в котором все объяснялось особенностями самой языковой системы, ввел автора и адресата в качестве необходимых компонентов, был французский ученый Э. Бенвенист. Одну из частей своего фундаментального труда «Общая лингвистика» (1966) он назвал «Человек в языке» [6, c. 259-328]. Его концепция субъективности в языке до сих пор остается одной из главных идей современной лингвистики антропоцентризма. Под субъективностью Э. Бенвенист понимал «способность говорящего представлять себя в качестве “субъекта”», ибо «только язык придает реальность, свою (здесь и далее курсив автора. – Е.П.) реальность, которая есть свойство быть, – понятию “Ego” – “мое я”» [6, c. 293]. Но «осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстает как ты. <...> Язык возможен только потому, что каждый говорящий
представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на я в своей речи. В силу этого я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему “я”, становится моим эхо, которому я говорю ты и которое мне говорит ты. <...> Именно в реальности диалектического единства, объединяющего оба термина и определяющего их во взаимном отношении, и кроется языковое основание субъективности» [6, c. 294]. Э. Бенвенист сделал решительный шаг от лингвистики имманентной, системоцентричной к лингвистике антропоцентричной. Опираясь на идеи французского ученого, Ю.С. Степанов еще в середине 70-х годов ХХ в. отнес антропоцентризм к числу главных принципов современной лингвистики [33, с. 49-51]. «... Язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним язык и должен изучаться. Поэтому в своем главном стволе лингвистика всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке, наукой гуманитарной, словом такой, какой мы находим ее в книге Бенвениста, не столько завершающей пройденный, сколько открывающей новый этап – 70-е годы нашего века» [34, c. 15]. Однако в 70-е годы ХХ в. лингвистика еще на стала наукой о языке в человеке и о человеке в языке, хотя начала путь в этом направлении. Современная лингвистика проявляет большой интерес к понятию «языковая личность», получившему статус парадигмообразующего. Этому во многом способствовала монография Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» (1987) [19]. Понятие «языковая личность» впервые использовал В.В. Виноградов в работе 1930 г. «О художественной прозе» [10]. В.В. Виноградову наука о языке во многом обязана очеловечиванием своего предмета, так как он первым в отечественном языкознании обратился к изучению проблемы человека по данным языка. Так, в 1946 г. он опубликовал небольшую статью «Из истории слова “личность” в русском языке до середины ХIХ в.». В ней в тезисной форме были намечены основные этапы развития представлений о человеке в русском национальном сознании. Эти материалы вошли в обширное исследование «История слов» (1994) [9], вышедшего в свет после смерти ученого. Ориентация на человека отчетливо видна и в других концепциях В.В. Виноградова: предикативности, модальности, образа автора и др. Например, предикативность, в определении ученого, это совокупность таких грамматических категорий (модальности, времени, лица), которые «определяют и устанавливают природу предложения как грамматически организованной единицы речевого общения, выражающей отношение говорящего (выделено нами. – Е.П.) к действительности и воплощающей в себе относительно законченную мысль» [8, с. 76]. Интересна точка зрения В.И. Абаева, который в середине 60-х годов прошлого века говорил о необходимости поставить человека во главу угла всех лингвистических исследований. В статье «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке» (1965) [1], направленной против крайнего проявления структурализма – глоссематики (стуктурализм копенгагенской
школы, по выражению исследователя, «надежно и уверенно ведет к абсурду» [1, с. 30]) – и в целом против главного положения Ф. де Соссюра, на котором основывался структурализм – изучать язык «в самом себе и для себя» – он писал: «Загадка, которую Сфинкс загадал Эдипу, была о Человеке. И на эту же загадку призвана ответить в меру своих возможностей каждая общественная наука. Эту же загадку решают, только иными средствами, литература и искусство. Любая общественная наука, что бы она ни изучала, изучает в конечном счете человека, совершенно так же, как любое искусство, что бы оно ни изображало, изображает в конечном счете человека. Всякая отрасль гуманитарного сектора, из которой выпадает человек, сама выпадает из гуманитарного сектора. Недаром слово гуманитарный происходит латинского humanus человеческий. Сказанное в полной мере относится и к языкознанию. Не изгонять человеческий фактор, как рекомендуют структуралисты, а раскрыть во всей полноте его роль в языке, понимаемом и как Еrgon и как Energei, – вот высшее назначение языкознания как общественной науки» [1, с. 38]. Структурализм, по мнению В.И. Абаева, – это «лингвистика в пустоте» [1, с. 27]. В начале 80-х годов XX в. В.А. Звегинцев увидел в человеке не только третью и главную величину социолингвистики, величину, которая должна стать связующим звеном между двумя другими ее величинами – языком и обществом, но и главную величину лингвистики в целом, которую наука о языке «ухитрилась просмотреть». «Требование гуманизации, – отмечал он, – не ограничивается рамками социолингвистики... Это требование в действительности также вписывается в общую тенденцию, которая становится все более ощутимой в современной лингвистике в целом» [14, с. 254]. В полную силу эта тенденция стала заявлять о себе с конца 80-х годов прошлого века, когда вышли работы, в которых с позиций антропоцентризма решались конкретные проблемы науки о языке [см. 4; 11; 15; 17; 19; 24; 29; 31; 37; 38; 39; 41]. В конце ХХ в. лингвисты сошлись во мнении, что «человек» является фундаментальным понятием во всех языках мира, своего рода языковой универсалией. Как писала Н.Д. Арутюнова, «если Бог создал человека, то человек создал язык – величайшее свое творение. Если Бог запечатлел свой образ в человеке, то человек запечатлел свой образ в языке. Он отразил в языке все, что узнал о себе и захотел сообщить другому. Человек запечатлел в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, свои эмоции и свой интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру, природе – земной и космической, свои действия, свое отношение к коллективу людей и другому человеку (Другому). Он передал языку свое игровое начало и свою способность к творчеству. <...> Язык насквозь антропоцентричен. Присутствие человека дает о себе знать на всем пространстве языка <...>» [3, с. 3]. Признание антропоцентричности языка означало официальное признание антропоцентризма лингвистики как науки о нем. Окончательное признание антропоцентризма в качестве главного принципа лингвистики произошло в 90-е годы ХХ в. в связи с активизацией
методологической рефлексии, приведшей к созданию аппарата терминов и
понятий, способного адекватно отразить как историю пауки, так и
охарактеризовать ее современное состояние. Общенаучным стал термин
«парадигма научного знания», берущий свое начало в работах американского
ученого Т. Куна. По Куну, парадигма – это «признанные всеми научные
достижения, которые в течение определенного времени дают научному
сообществу модель постановки проблем и их решений» [22, с. 11]. В
современной науке о языке нет однозначного подхода к выделению различных
парадигм, смена которых представляет историю языкознания.
Так, Ю.Н. Караулов выделяет историческую, психологическую, системноструктурную и социальную парадигмы [19]; Ю.С. Степанов – философию имени,
философию предиката и философию эгоцентрических слов [32]; А.М. Ломов –
элементно-таксономическую,
системно-структурную,
номинативно
прагматическую парадигмы [25]; В.И. Постовалова имманентно-семиологическую,
антропологическую, теоантропокосмическую (трансцендентальную) парадигмы
[27]; В.А. Маслова – сравнительно-историческую, системно-структурную и
антропоцентрическую [26]. Отсутствует также единый взгляд относительно
названия
современной
парадигмы
изучения
языка.
Многие
ученые
(Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, Р.М. Фрумкина, Г.И. Берестнев и др.) современную
лингвистическую парадигму, пришедшую на смену структурализму (системноструктурной
парадигме),
называют
когнитивной.
Однако
когнитивная
лингвистика – это только один из способов изучения языка в человеке и
человека в языке. Поэтому эпитет антропологическая (антропоцентрическая)
применительно к современной парадигме изучения языка представляется более
удачным, так как позволяет «обнять» не только когнитивную линию изучения языка,
но и все остальные: функционально-коммуникативную, этнолингвистическую
(лингвокультурологическую) и др.
Антропоцентризм как особый принцип исследования, господство
которого роднит лингвистику со многими другими науками, причем не только
гуманитарными, заключается в том, что «научные объекты изучаются прежде
всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по
их функциям для развития человеческой личности и ее усовершенствования.
Он обнаруживается в том, что человек становится точкой отсчета в анализе тех
или иных явлений, что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и
конечные цели. Он знаменует <...> тенденцию поставить человека во главу угла
во всех теоретических предпосылках научного исследования и обусловливает
его специфический ракурс» [21, с. 212].
С антропоцентризмом тесно связаны другие лингвистические принципы,
которые все вместе определяют идеологию современного языкознания как науки о
человеке: экспансионизм, функционализм, экспланаторность (объяснительность).
Эти четыре принципа в качестве параметров современной лингвистической
парадигмы впервые были выдвинуты и обоснованы Е.С. Кубряковой [20]. К ним
следует добавить еще два: текстоцентризм и семантикоцентризм.
Понятие экспансионизма как тенденции в развитии науки впервые стало
предметом обсуждения на XIV Международном лингвистическом конгрессе (Берлин, 1987 г.), на котором Т. Энквист и Ф. Данеш отстаивали преимущества такого подхода применительно к лингвистике текста. Противопоставляя экспансионизм (т.е. стремление как можно больше расширить область лингвистических исследований) редукционизму, который грозит опасностью упустить при становлении новой дисциплины какие-либо непосредственно не наблюдаемые или менее очевидные признаки объекта, эти ученые обосновали целесообразность разумного расширения границ лингвистической науки. Экспансионизм является законом любой науки. Если бы наука претендовала на то, чтобы рано или поздно высказать истину в последней инстанции, она вступила бы в противоречие со смыслом своего существования. Лингвистика с полным правом может быть названа наукой с безграничными перспективами, которая все время стремится к обновлению, к расширению своих горизонтов. Проявления лингвистической экспансии весьма разнообразны: это и появление новых объектов исследования, и пересмотр традиционных проблем с новых позиций, и создание новых направлений и методов исследования языка, и др. Благодаря процессу интеграции как проявления лингвистической экспансии возникают «сдвоенные» науки, находящиеся на стыке различных гуманитарных и негуманитарных дисциплин: социо- и этнолингвистика, психо- и паралингвистика, лингвокультурология и математическая лингвистика, гендерная лингвистика и когнитивная лингвистика, политическая лингвистика и юрислингвистика, компьютерная лингвистика и лингвистическая имагология, а также многие другие. Именно интеграционные процессы вызвали к жизни такую междисциплинарную программу исследования, как когнитивная наука. В ее рамках изучение человеческого разума (его способности принимать, перерабатывать и хранить информацию) идет по нескольким направлениям: лингвистическому, логическому, психологическому, нейрофизиологическому. Причиной интеграции является все возрастающий интерес к человеку как главной научной ценности и то, что «продвижение наших знании о мире происходит именно в промежутках между традиционными науками» [23, с. 204]. То, что в XX в. «языковые обобщения будут охватывать все более широкие круги и все более соединять языкознание с другими науками: с психологией, с антропологией, с социологией, с биологией», предвидел еще И.А. Бодуэн де Куртенэ в самом начале ХХ в., когда делал прогнозы относительно развития науки о языке в ХХ столетии [7, с. 18]. В конце 20-х годов прошлого века на это указывал американский исследователь Э. Сепир, посвятивший специальную работу отношению лингвистики к другим наукам. Он писал: «В процессе развития лингвистических исследований язык доказывает свою полезность как инструмент познания в науках о человеке и в свою очередь нуждается в этих науках, позволяющих пролить свет на его суть. Современному лингвисту становится трудно ограничиваться лишь своим традиционным предметом. Если он не вовсе лишен воображения, то он не может не разделять взаимных интересов, которые связывают лингвистику с антропологией, философией и – в более отдаленной перспективе – физиологией и физикой» [30, с. 260-261].
Но подобное мнение почти весь ХХ в. было редким исключением. Как писал в 2015 г. В.М. Алпатов, рассматривая развитие науки о языке, «можно говорить о том, что в истории науки о языке постоянно идет борьба стремления к строгому изучению своего объекта по образцу естественных наук, с опорой на наблюдаемые факты, и желания рассматривать язык вместе с говорящим на нем человеком, с учетом интуиции, интроспекции и творческих способностей людей. Последний подход был сформулирован В. фон Гумбольдтом в начале XIX в., но его недостатком постоянно оказывались нестрогость и произвольность. Другой же подход, достигший максимума в структурализме, давал несомненные, но ограниченные результаты. Ему свойственны стремление к проведению строгих границ, обособлению лингвистики от других наук, рассмотрению объекта как замкнутой системы, ограничению задач своей науки относительно узким кругом, будь то сравнение родственных языков и реконструкция праформ или же структурный анализ фонологии и морфологии. В конечном счете, он стремится к упорядочению. В противоположность этому подход, связываемый с именем В. фон Гумбольдта, стремится к расширению любых рамок, междисциплинарным исследованиям, постановке глобальных задач, при этом часто без сколько-нибудь строгого метода. <…> Оба подхода неустранимы из развития науки, хотя в разные эпохи на первый план может выходить то один, то другой из них» [2, c. 18]. Существование обоих подходов необходимо для развития науки. Таким образом, объектом лингвистики всегда был и будет язык, прежде всего естественный, который в разные периоды науки изучается по-разному, поворачивается новыми гранями. Но чем больше человек узнает о языке, чем больше открытий делают ученые, тем больше, как это ни парадоксально, возникает сложнейших вопросов, а иногда под сомнение ставится то, что до определенного времени считалось бесспорным. По этой причине лингвистическая экспансия является одним из главных принципов языкознания. Сегодня нет области лингвистических исследований, которая не приобрела бы антропоцентрической направленности, но наиболее ярко сущность лингвистики антропоцентризма проявляется в текстовых исследованиях. Текст невозможно изучать вне человека, который является его производителем и получателем. Более того, текст стал ключевым понятием для антропологической парадигмы изучения языка, поскольку «человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный)» [5, c. 301]. История лингвистики, являющаяся сменой различных парадигм, неизбежно выдвигает на определенном этапе своего развития ту или иную парадигму, что имеет следствием, с одной стороны, более глубокое познание своего объекта, а с другой – приводит с течением времени к его одностороннему изучению. Однако в новой парадигме такой односторонности нет. Лингвистика от нее ограждена благодаря онтологическим и гносеологическим свойствам текста, находящегося в ее центре. Текст, вмещающий в себя структурность, социальность, психологичность и многое
другое, «обладает интегрирующими свойствами, и прежде всего в нем через творящее его Ego (языковую личность) воплощаются как разные стороны языка, так и изучающие их разные парадигмальные составляющие лингвистической науки» [35, c. 109]. В языке все направлено на осуществление коммуникации, единицей которой является текст (люди общаются между собой с помощью текстов различных типов), поэтому все языковые реалии обретают свой подлинный смысл только в тексте. Без указания на то, как та или иная языковая единица или категория участвует в создании определенного типа текста, представление о языке будет неполным. Диапазон исследований будет сужен, если изучение текста будет сосредоточено в одном разделе языкознания (лингвистике текста). Привлечение текстового аспекта позволило по-новому взглянуть на привычные объекты и открыло новые области исследования, о которых лингвисты в дотекстовый период языкознания не подозревали. Не случайно поворот науки о языке к тексту многие ученые сравнивали с лингвистической революцией. «Для некоторых из нас осознание решающего значения текстуальных и дискурсивных факторов было равносильно по своим последствиям революции, – вспоминал финский ученый Н. Энквист. – Мы смогли теперь, например, объяснить, почему в определенных предложениях в тексте мы находим пассивную конструкцию или топикализацию, или экстрапозицию, или экзистенциальную конструкцию» [40, c. 109]. Долгое время самой крупной языковой единицей считалось предложение, которое рассматривалось как «геркулесовы столпы» лингвистики. Например, А.А. Реформатский в статье «Единицы языка», назвав единицы языка и изучающие их разделы науки и дойдя до предложения и синтаксиса, замечал: «Больше в языке ничего не бывает и не может быть» [28, c. 100]. С середины ХХ в. в науке проявляется интерес к выходу за пределы предложения, к поискам языковой единицы большей, чем текст. К концу ХХ в. языковедов разных направлений объединяет признание текста важнейшим лингвистическим объектом. Но поднявшись на высшую ступень, лингвистика не достигла своего предела, поскольку чем выше точка обзора, тем больше возникает вопросов. Текст – перспективная исследовательская область, многие открытия в которой еще впереди. «Мир текстов представляется ... лингвистическим космосом, изучение которого будет продолжаться до тех пор, пока существует человек, деятельность и общение, причем будут возникать все новые аспекты его исследования» [38, c. 182]. Текстовая и антропоцентрическая направленность языкознания непосредственно связана с функционализмом. Его главное требование – изучать язык в действии, при исполнении им «служебных» обязанностей, т.е. функций. Для лингвистики второй половины XX в. характерна переориентация научных интересов с преимущественного изучения внутренних закономерностей языковой системы на рассмотрение функционирования языка как важнейшего средства человеческого общения. Однако если понимание структуры и семантики является устоявшимся, то относительно функции и