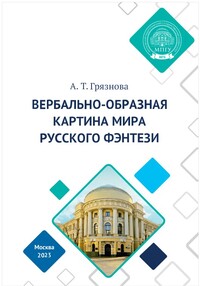Вербально-образная картина мира русского фэнтези
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Теория литературы
Издательство:
Московский педагогический государственный университет
Автор:
Грязнова Анна Тихоновна
Год издания: 2023
Кол-во страниц: 296
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Профессиональное образование
ISBN: 978-5-4263-1238-8
Артикул: 834967.01.99
Монография посвящена лингвопоэтической характеристике вербально-образной картины мира с использованием когнитивного подхода. Монография стала результатом наблюдений автора над стилем русского фэнтези с конца
90-х гг. ХХ в. по настоящее время. Стиль русского фэнтези обнаруживает родство со стилями генетически родственных ему романтизма и символизма. Предметом анализа в монографии является вербально-образная картина мира русского фэнтези, рассматриваемая как один из уровней художественной картины мира. Материалы исследования апробированы в докладах, сделанных на международных и всероссийских конференциях в МПГУ и других вузах страны. Монография рекомендована студентам и аспирантам филологических факультетов вузов, учителям школ, гимназий, лицеев, а также всем интересующимся изучением языка художественного текста.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 45.03.01: Филология
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Министерство просвещения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет» А. Т. Грязнова ВЕРБАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ КАРТИНА МИРА РУССКОГО ФЭНТЕЗИ Монография МПГУ Москва • 2023
УДК 821.161.1-9 DOI: 10.31862/9785426312388 ББК 83.3(2=411.2)6-444.513 Г928 Рецензенты: Е. В. Алтабаева, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка (МПГУ) И. В. Якушевич, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и методики преподавания филологических дисциплин института гуманитарных наук (МГПУ) Грязнова, Анна Тихоновна. Г928 Вербально-образная картина мира русского фэнтези: монография / А. Т. Грязнова. – Москва : МПГУ, 2023. – 296 с. ISBN 978-5-4263-1238-8 Монография посвящена лингвопоэтической характеристике вербально-образной картины мира с использованием когнитивного подхода. Монография стала результатом наблюдений автора над стилем русского фэнтези с конца 90-х гг. ХХ в. по настоящее время. Стиль русского фэнтези обнаруживает родство со стилями генетически родственных ему романтизма и символизма. Предметом анализа в монографии является вербально-образная картина мира русского фэнтези, рассматриваемая как один из уровней художественной картины мира. Материалы исследования апробированы в докладах, сделанных на международных и всероссийских конференциях в МПГУ и других вузах страны. Монография рекомендована студентам и аспирантам филологических факультетов вузов, учителям школ, гимназий, лицеев, а также всем интересующимся изучением языка художественного текста. УДК 821.161.1-9 ББК 83.3(2=411.2)6-444.513 ISBN 978-5-4263-1238-8 DOI: 10.31862/9785426312388 © © МПГУ, 2023 Грязнова А. Т., текст, 2023
СОДЕРЖАНИЕ Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Вербально-образная картина мира как элемент стиля русского фэнтези в современной научной парадигме 1.1. Языковая репрезентация стиля фэнтези как объект анализа лингвокогнитивной поэтики . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2. Вербально-образная картина мира как предмет исследования лингвокогнитивной поэтики . . . . . . . . . 20 1.3. Художественный концепт как структурный элемент вербально-образной картины мира русского фэнтези . . . . . . . . . . . 26 1.4. Лексема как минимальный структурно-семантический элемент вербально-образной картины мира русского фэнтези . . . . . . . . . . . 35 2. Конститутивные признаки вербально-образной картины мира русского фэнтези 2.1. Неомифологизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.2. Поэтика именования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.3. Мифонимизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3. Концептуальная организация ядра вербально-образной картины мира русского фэнтези 3.1. Стилеобразующая роль мегаконцепта ОТРАЖЕНИЕ . . . . . . . 69 3.2. Структурирующая функция ядерного мегаконцепта МАГИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.3. Проблема локализации суперконцепта ЦВЕТ . . . . . . . . . . . . . . 75 4. Концепты персональной семантики 4.1. Структура ядерного макроконцепта ГЕРОЙ . . . . . . . . . . . . . . . 83 4.2. Структура ядерного суперконцепта ОРУЖИЕ . . . . . . . . . . . . . 88 5. Концепты локальной семантики 5.1. Структура ядерного макроконцепта ДОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5.2. Традиции и новаторство вербализации ядерного макроконцепта ГОРОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5.3. Суперконцепт ВАВИЛОН как маркер интертекстуальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
А. Т. Грязнова. ВЕРБАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ КАРТИНА МИРА РУССКОГО ФЭНТЕЗИ 6. Концепты темпоральной семантики 6.1. Структура ядерного макроконцепта ОСЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . 125 6.2. Структура макроконцепта ИГРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6.2.1. Эмоционально-экспрессивная составляющая макроконцепта ИГРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 6.2.2. Функции каламбура в структуре макроконцепта ИГРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6.2.3. Типы отфразеологической языковой игры в текстах русского фэнтези . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6.2.4. Новые приемы использования устойчивых выражений в организации языковой игры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 7. Способы и приемы репрезентации околоядерных концептуальных полей ЗАГАДКА и ПРАВДОПОДОБИЕ 7.1. Языковые средства создания гротеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 7.2. Структура и функции сравнительных конструкций . . . . . . . . 179 7.3. Структура и функции метонимии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 7.4. Функции субстантивации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 7.5. Типы и функции олицетворения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 7.6. Способы вербализации синестезии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 7.7. Типы и функции языковых аномалий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 7.8. Функции инфинитивного сказуемого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 8. Репрезентация околоядерных концептуальных полей ЗАГАДКА и ПРАВДОПОДОБИЕ посредством стилистических приемов 8.1. Поэтика стилистического контраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 8.2. Типы и функции социолектизмов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 8.3. Типы и функции этномаркированных языковых единиц . . . . 267 8.4. Комплексный анализ вербально-образной картины мира текстов фэнтези Э. Раткевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
ПРЕДИСЛОВИЕ Стиль русского фэнтези в настоящее время активно изучается с лингвопоэтических позиций: анализируются способы перевода языковых единиц с английского языка на русский (Мордвинова, 2016; Евстафиади, 2020); решаются вопросы терминологии фэнтезийного и околофэнтезийного дискурса (Лекарева, 2020); выявляются стилистические особенности языка фэнтези (Гусарова, 2021); рассматривается проблема создания окказионализмов (Кирияченко, 2017). В последнее время усилился интерес к изучению языка фэнтези с когнитивных позиций: анализу подвергается вербализация концептов (Пушкарева, 2020); характеризуется отражение нереалистической картины мира в толковом словаре (Ваулина, 2019); устанавливаются интертекстуальные связи текстов фэнтези (Беренкова, 2019). Изменение проблематики научного описания обусловлено динамикой становления стиля фэнтези. Все перечисленные факторы подтверждают актуальность настоящего исследования. Стиль фэнтези, сформировавшийся в рамках отечественной беллетристики под влиянием русских переводов произведений англоязычных авторов (Дж.Р.Р. Толкина, К.С. Льюиса, У. Ле Гуин, Р. Желязны) быстро адаптировался к традициям национальной литературы благодаря сложившейся на протяжении ХIХ–ХХ веков языковой манере нереалистической литературы. Выработка национального идиолекта русского фэнтези началась в 90-х годах прошлого века, но за прошедший период под влиянием воспринимающей культуры в его стиле произошли существенные трансформации не только литературного, но и лингвистического характера. Закрепление этого литературного направления на русской почве произошло чрезвычайно легко и быстро вследствие его генетического родства с течениями романтизма и символизма, уже освоенными отечественной литературой. Говорить об этапах становления языка фэнтезийной прозы довольно трудно вследствие того, что многие лингвопоэтические процессы протекали в нем параллельно друг другу, кроме того, большинство оригинальных фэнтезийных текстов были написаны задолго до их публикации. Все же в этом процессе можно выделить пять основных периодов: 1) 1969–1988 – подготовительный период; 2) 1989–1994 – период адаптации; 3) 1995–2002 – период становления;
А. Т. Грязнова. ВЕРБАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ КАРТИНА МИРА РУССКОГО ФЭНТЕЗИ 4) 2002–2013 – период развития; 5) 2013 по настоящее время – период освоения и распространения приемов. Охарактеризуем языковые процессы, присущие каждому периоду более подробно. За точку отсчета первого периода нами принято время издания первого перевода на русский язык повести Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (Толкин, 1969). На первом этапе становления языка фэнтези появляются и другие переводы произведений этого жанра (например, в 1980 году выходит перевод рассказа У. Ле Гуин «Апрель в Париже», выполненный Н. Галь; полностью публикуется «Хоббит» (Толкин, 1976), появляются переводы других произведений Толкина (Толкин, 1980; Толкиен, 1982). На этом этапе становления языка фэнтези актуализируются компоненты тематических групп, которые частично вошли в русский язык уже в ХIХ–ХХ веках и к моменту адаптации фэнтези существовали на его периферии благодаря переводам английских и немецких волшебных сказок и легенд (например, имена представителей волшебных рас: эльфы, гномы, гоблины; названия волшебных животных: дракон, единорог). В этот период появляются новые заимствования (хоббит), в том числе и словообразовательных моделей (Средиземье: сложение корней с суффиксацией, причем в качестве словообразовательного форманта обычно выступает суффикс -j-, а в качестве одной из производящих основ зем-). Отметим, что процесс заимствования происходил не только путем трансляции/транслитерации, но и калькирования, а также собственно перевода. Для данного этапа нехарактерно появление оригинальных фэнтезийных текстов на русском языке, хотя следует отметить, что первые повести М. Семеновой, родоначальницы славянского фэнтези, были написаны в 1980–1984 годах. За начало второго периода становления языка фэнтези нами принято время первой публикации фэнтезийной повести на русском языке – «Лебеди улетают» М. Семеновой. Для данного этапа характерен процесс адаптации фэнтези к условиям воспринимающей культуры и литературы. Приспособление заимствованного жанра, по большей части, происходило путем освоения русскими авторами новых образов и сюжетов, что сопровождалось одновременным заимствованием соответствующих пластов лексики. Этому процессу спо
Предисловие собствовали как переводы1, так и оригинальные фэнтезийные произведения русских авторов, часто подписанные псевдонимами. Так, например, роман Е. Хаецкой «Меч и радуга» первоначально был издан ею под псевдонимом М. Симонс. В то же время публикуются первые произведения Ника Перумова: «Эльфийский Клинок» (1993), «Черное Копье» (1993). В данный период происходит формирование наиболее типичных ключевых слов жанра. В первую очередь в их состав входят единицы номинативного характера, которые называют персонажей и образы, присущие фэнтези как жанру. К числу актуальных для него тематических групп (далее ТГ) и их компонентов принадлежат: ТГ герой (рыцарь, избранный, лорд и т.д.), ТГ волшебник (маг, колдун, чародей и т.д.), ТГ представители волшебных рас (тролли, феи, эльфы и др.), ТГ волшебные животные (грифоны; горгульи), ТГ оружие (Эскалибур), ТГ магические артефакты (Грааль). Параллельно с процессом актуализации освоенной лексики посредством активного ее использования в художественных текстах протекали два не менее важных языковых явления: во-первых, освоение новых лексем, относящихся к перечисленным семантическим группам (этот процесс продолжился и на последующих этапах развития языка фэнтези): например, орки, цверги, лепреконы, банши; мантикоры, горгульи, леогрифы; мифрилл; эспадон, гладиус, катана и др.2 Второй процесс был обусловлен необходимостью словообразовательной адаптации заимствованной лексики к условиям воспринимающего языка. Вследствие этого в русском языке появился ряд лексических элементов, служащих для обозначения фантастических существ женского пола, названий детенышей, а также слов с признаковым значением. К настоящему времени большинство ТГ фэнтезийной лексики успешно освоены русской беллетристикой, о чем свидетельствует значительное количество дериватов, в том числе и окказионального характера (эльфея, гномка, полуэльф, гроблин, мифрилловый и др.). У части подобных неологизмов отчетливо выражен коннотат (драконарий, джиннопродавец, нежитеведение и др.), что свидетельствует об их успешной адаптации к условиям русского языка. Нужно заметить, что предлагаемая классификация требует коррекции применительно к творчеству конкретных авторов: так, Д. Громов 1 Например, У. Ле Гуин (Ле Гуин, 1992, 1993). В этот же период появляются первые русские переводы фэнтезийных текстов Р. Желязны и К. Льюиса. 2 В этом процессе участвовали не только литературные произведения, но и кинематографические, а также мультипликационные сериалы.
А. Т. Грязнова. ВЕРБАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ КАРТИНА МИРА РУССКОГО ФЭНТЕЗИ и О. Ладыженский, создающие произведения под псевдонимом Г.Л. Олди, уже в 1990-е годы начали поиск новых литературно-фольклорных источников фэнтези и первыми в отечественной литературе расширили границы художественного времени, традиционно изображаемого в фэнтези, за счет творческой переработки сюжетов и персонажей индийской, а затем и греческой мифологии. Уже в это время в их творчестве (на фоне традиционной фэнтезийной поэтики) существенно увеличивается количество мифонимов и теонимов, а также вырабатывается система образных средств, впоследствии взятая на вооружение другими авторами фэнтези. Среди языковых единиц, активно используемых Г.Л. Олди, в первую очередь, следует назвать фразеологизмы и паремии, сравнения и интертекстуальные вкрапления. Все эти образные средства начинают активно использоваться другими авторам фэнтези на третьем и четвертом этапах становления языка и стиля описываемого жанра. За начало третьего этапа периодизации нами принят год выхода двух программных фэнтезийных текстов, построенных на материале славянской истории – это «Волкодав» М. Семеновой и «Там, где нас нет» М. Успенского. На этом этапе наблюдаются тенденции, связанные со становлением языка и стиля собственно русского фэнтези. Они обнаруживаются в том, что, наряду с единицами номинативного характера, постепенно увеличивается количество экспрессивных языковых средств, позволяющих авторам не только успешно строить сюжет, но и создавать достаточно сложные характеры персонажей и передать художественные идеи, явно выходящие за рамки тех несложных смыслов, которые первоначально задавались канонами жанра. К числу лексико-фразеологических единиц, позволяющих достичь подобного эффекта, относятся историзмы и архаизмы (М. Семенова, А. Мартьянов); просторечная лексика, фразеологизмы и паремии, стилистически окрашенные слова (М. Успенский, А. Лютый, В. Угрюмова, О. Шелонин, А. Белянин и др.); экзотизмы и оккультизмы (Д. Трускиновская, Г.Л. Олди). Язык и стиль фэнтезийных текстов этого периода отличаются не только патетикой, но и иронией, которая часто достигается путем стилистического рассогласования (в том числе и стеба). Иными словами, на этом этапе в языке фэнтези, с одной стороны, впервые отчетливо проявляются элементы языковой игры, а с другой – сама эта лексема входит в состав ключевых единиц языка направления. Под влиянием произведений Толкина в этот период учащаются эксперименты писателей по созданию искусственных язы
Предисловие ков (или их фрагментов). Наиболее заметны подобные эксперименты в произведениях Э. Раткевич и Г.Л. Олди. Формирование вымышленных языков происходит, с одной стороны, с учетом лингвокультурной составляющей создаваемых лингвистических единиц, а с другой – с опорой на реально существующие языковые единицы, употребленные в индивидуально-авторском значении (как, например, вавилонское смешение языков, Вавилонская башня в романе Г.Л. Олди «Богадельня»). Этот процесс происходит под мощным воздействием не только отечественной, но всемирной литературы и культуры, что отражает такое конститутивное с свойство фэнтези, как универсализм. Наконец, в этот же период появляется четыре романа из серии о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг: 1997 – Гарри Поттер и философский камень – англ. Harry Potter and the Philosopher’s Stone; 1998 – Гарри Поттер и Тайная комната – англ. Harry Potter and the Chamber of Secrets; 1999 – Гарри Поттер и узник Азкабана – англ. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban; 2000 – Гарри Поттер и Кубок огня – англ. Harry Potter and the Goblet of Fire и переводы трех первых книг на русский язык, оказавшие существенное влияние на последующий этап развития языка и стиля фэнтези. Четвертый этап начался в 2002 году, когда вышли сразу две пародии на романы Дж.К. Роулинг – «Таня Гроттер и магический контрабас» Д. Емца и «Порри Гаттер и Каменный Философ» А. Жвалевского и И. Мытько. Эта традиция была продолжена пародийной дилогией С. Панарина о Харри Проглоттере. Для всех перечисленных произведений характерна языковая игра, в которую вовлекаются языковые единицы различных уровней, образующих весьма причудливые сочетания друг с другом. Так, в последнее время для языка фэнтези стала характерна отфразеологическая деривация, встречающаяся в различных модификациях направления. Произведения комического фэнтези появляются в творчестве Н. Резановой, А. Белянина Перечисленные произведения позволяют с уверенностью говорить о появлении детского и подросткового фэнтези (см. также С. Садов, М. и С. Дяченко), изучение языка которого позволяет выявить характерные для жанра языковые приемы и ключевые слова. Авторы этого направления создают фэнтезийные вселенные (Д. Емец, Л. Романова), создавая целостные художественные картины мира и актуализируя в них стилеобразующие концепты направления. Число ядерных единиц фэнтези пополнилось за счет включения в их состав концептов ОСЕНЬ (Г.Л. Олди, Э. Раткевич, В. Камша), ИГРА, ГОРОД, ДОМ (Н. Некрасова, А. Гурова и др.), которые не только
А. Т. Грязнова. ВЕРБАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ КАРТИНА МИРА РУССКОГО ФЭНТЕЗИ подчеркивают формирующуюся связь жанра с русской классической литературой, но и придают ему философское звучание, поскольку рассматриваемые концептуальные поля, обладая богатым образным потенциалом, позволяет одновременно формировать фэнтезийный хронотоп. Заметной тенденцией в фэнтезийной прозе этого периода стало освоение литературным направлением жанра поэзии. Стихотворные вкрапления используются как элемент прозаических текстов (В.Е. Иванова, М. Успенский, Г.Л. Олди) и как самостоятельное направление творчества авторов (А. Белянин «Пастух медведей», О. Ладыженский «Мост над бездной). В этот период выходят программные произведения неомифологического фэнтези (В.Е. Иванова, А. Пехов), появляется такое течение, как ориентальное фэнтези (А. Гурова, Г.Л. Олди), формируется новый тип героя, обладающего «минус магическими способностями» или лишенного их в наказание за проступок, но преодолевающего собственную слабость. Наконец, рассматриваемый хронологический отрезок становится завершающим для творчества знакового автора русского фэнтези М. Успенского, ушедшего в 2013 году. В настоящее время в стиле фэнтези можно наблюдать ряд разнонаправленных тенденций: с одной стороны, появилось большое число произведений, написанных в стиле романтического фэнтези, написанных под сильным влиянием любовного романа (М. Ефиминюк, М. Завойчинская и др.), с другой стороны, усилилось влияние на фэнтези детективного романа (А. Белянин, А. Пехов), причем в произведениях указанных авторов усилились черты стимпанка. Важные тенденции отражает язык подросткового фэнтези: его авторы (Д. Емец, Е. Соболь) все активнее используют лексемы душа, сердце, голова, подчеркивая их значимость в процессе концептуализации изображаемой действительности и стремлении ее осмыслить с философских позиций. Все сказанное свидетельствует о том, что на современном этапе язык фэнтези представляет собой сложную систему, требующую комплексного описания в лингвокогнитивном аспекте, а формирующийся корпус лингвопоэтических исследований и накопленный корпус фэнтезийных текстов дают богатый материал для размышлений. Предлагаемая монография, включающая статьи, написанные в период с 90-х годов ХХ столетия по настоящее время, частично решает данную проблему и открывает широкую перспективу дальнейшего лингвистического его исследования.