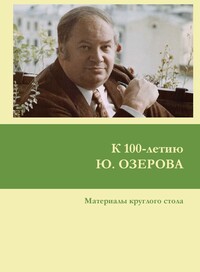К 100-летию Ю. Озерова
Материалы круглого стола
Покупка
Тематика:
Фотоискусство. Киноискусство
Издательство:
Всероссийский государственный институт кинематографии
Год издания: 2021
Кол-во страниц: 86
Дополнительно
Вид издания:
Сборник
Уровень образования:
ВО - Специалитет
ISBN: 978-5-87149-275-8
Артикул: 834835.01.99
В сборник вошли доклады и тезисы участников круглого стола, посвященного 100-летию режиссера Юрия Озерова. Материалы издания отражают обширный спектр вопросов, связанных с творчеством мастера.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Магистратура
- 50.04.03: История искусств
- ВО - Специалитет
- 55.05.01: Режиссура кино и телевидения
- 55.05.02: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
- 55.05.03: Кинооператорство
- 55.05.04: Продюсерство
- 55.05.05: Киноведение
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
К 100‑ЛЕТИЮ Ю. ОЗЕРОВА (материалы круглого стола) ВГИК 2021
УДК 778.5 с/р(092)1«Озеров Ю.»
ББК 85.374
К 11
Составители: С. Каптерев (PhD), В. Виноградов (доктор искусствоведения)
К 100-летию Ю. Озерова (материалы круглого стола). М., ВГИК,
2021. — 86 С.
ISBN 978-5-87149-275-8
В сборник вошли доклады и тезисы участников круглого стола,
посвященного 100-летию режиссера Юрия Озерова. Материалы издания отражают обширный спектр вопросов, связанных с творчеством мастера.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся историей
отечественного кинематографа.
УДК 778.5 с/р(092)1«Озеров Ю.»
ББК 85.374
ISBN 978-5-87149-275-8
К 11
© Всероссийский государственный
институт кинематографии
им. С. А. Герасимова, 2021
СОДЕРЖАНИЕ Вступительное слово ректора ВГИКа В. Малышева ......................................... 4 Г. Реутов Воспоминания об учебе в мастерской Ю. Н. Озерова (1981–1986) ............... 6 Д. Караваев Враги и союзники СССР в военно- эпических фильмах Юрия Озерова ..................................................... 15 С. Смагина Вопросы зрелищности в киноэпопее Юрия Озерова и современных блокбастерах о Великой Отечественной войне (тезисы выступления) .................................................................................. 22 С. Каптерев «Кочубей», «Фуртуна» и «Большая дорога». Три фильма о трех вой нах ..... 34 М. Пальшкова «Освобождение» Юрия Озерова и международный опыт военной эпопеи ............................................................. 40 М. Казючиц «Другая вой на» в художественной проблематике позднего творчества Ю. Н. Озерова .............................................................................................................. 47 Д. Хикс Образ Знамени Победы в фильме «Освобождение» (тезисы к докладу) ..... 52 В. Виноградов Образ Сталина в киноэпопее «Освобождение» (тезисы доклада) ................ 56 Н. Майоров Использование советской кинотехники в фильмах Юрия Озерова ............. 60 О. Шухер Проба голоса. «Сын»: домашние щи или многоточие в конце предложения? ................................................................ 69 Н. Спутницкая Проблема поколений в фильме Юрия Озерова «Сын» .................................... 80
Владимир Малышев, ректор ВГИКа, доктор искусствоведения, профессор, академик РАО ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Для нас, вгиковцев, «преемственность» — очень важное слово. Поэтому в 2021 г. мы запланировали серию конференций, посвященных творчеству наших преподавателей и учеников. И первым делом я хотел бы поблагодарить коллег, сотрудников ВГИКа — организаторов данного круглого стола, посвященного творчеству Юрия Николаевича Озерова. Сегодня мы отмечаем его 100-летний юбилей. К слову о преемственности. Юрий Николаевич поступил во ВГИК в 1946 г. в мастерскую Игоря Савченко и работал на его картине «Третий удар» в качестве ассистента и исполнителя эпизодической роли. Спустя много лет уже у него, руководителя вгиковской мастерской, учились Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук. Еще будучи студентом, Бондарчук принимал участие в съемках поздних эпопей Озерова «Битва за Москву» и «Сталинград». И смотрите: через какие-то несколько десятилетий Федор Бондарчук сам снимает «Сталинград», который увидели миллионы кинозрителей! Я вспоминаю свои студенческие годы... Признаюсь, что тогда мы счи тали «Освобождение» чем-то вроде «заказухи». Но когда смотрю эту кино- эпопею сейчас, я вижу настоящее батальное кино, причем без всяких спецэффектов! Сколько же надо было вложить труда, сил в работу, в которой столько правды! Думаю, не надо напоминать, что режиссер прошел всю войну. До вой- ны он учился в ГИТИСе, потом окончил ускоренные курсы в Академии имени М. В. Фрунзе, воевал на разных фронтах. Уверен, нельзя сделать понастоящему хороший фильм о войне, если ты, как говорится, не в материале. Сразу будет видна искусственность, надуманность. Считаю, что этой
Владимир Малышев военной эпопеей Юрий Николаевич внес свой вклад в историю Великой Отечественной войны и нашей Победы. Время показало: в той юношеской снисходительной иронии по поводу озеровской эпопеи мы были неправы. Думаю, это подтвердят и выступающие на нашем сегодняшнем юбилейном круглом столе, посвященном творчеству Юрия Озерова.
Георгий Реутов, режиссер ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧЕБЕ В МАСТЕРСКОЙ Ю. Н. ОЗЕРОВА (1981–1986) В начале своих воспоминаний мне хотелось бы ответить на вопрос: по чему я учился у Юрия Николаевича, как я оказался во ВГИКе? Это совсем не праздный вопрос, он, как мне представляется, в определенном смысле закономерен и имеет прямое отношение к тому, что пытался делать Озеров как педагог ВГИКа. Я вырос в пригороде небольшого городка Пермского края в простой тру довой семье, но с патриархальным уклоном. Появился на свет пятым ребенком, когда родителям давно перевалило за сорок. В то время, как мои сверстники в конце пятидесятых и в шестидесятые годы ХХ века легко и просто, естественным образом становились октябрятами, пионерами и комсомольцами, мне приходилось эти ступени вхождения в общественную жизнь скрывать от родителей в силу их религиозного неприятия. Отец с матерью не были сектантами, но они считали эти вещи чуждыми и вредными для христианской морали. В 20-е гг. их семьи не были злобными кулаками, но, вероятно, владели кое-каким имуществом, что дало повод для процедуры раскулачивания, и это также не могло не сказаться на их отношении к коммунистической идеологии. Вместе с тем родители в меру своих пенсионных материальных возможностей удовлетворяли мое желание заниматься кинолюбительством и одобрительно относились к собраниям и занятиям дворовой киностудии в двухкомнатной квартире хрущевки. Квартира была и съемочным павильоном, и проявочной лабораторией, и всем остальным. Кино любил. Фильмы Чаплина, военные и те, что про справедливость. Возможно поэтому наша дворовая студия снимала пародии на молодежь, стремящуюся к легкой жизни, и про то, как замечательно отдыхать в загородном пионерском лагере, о вольном детстве на берегах большой реки Камы. Когда в семье появился телевизор, с вниманием смотрел передачи народного артиста и режиссера Григория Рошаля «Объектив».
Георгий Реутов В армию я уходил, имея за плечами восьмилетку поселковой школы и целлюлозно- бумажный техникум. Там, в армии, окончательно определился: никаким морским офицером я не буду, а буду кинорежиссером художественных фильмов, и своими фильмами стану пробуждать в людях совесть, утверждать необходимость советской власти и ее развитие. В институт культуры к Рошалю я попал по «советскому блату»: через подготовительное отделение (бывший рабфак). Григорий Львович принял меня как неизбежность, но очень скоро я почувствовал его симпатию ко мне. Рошаль был величайшим педагогом, редкой культуры человеком. Свою задачу он видел следующим образом. В связи с массовым развитием кинолюбительского движения ему требуются подготовленные руководители, которые бы помогали человеку с киноаппаратом научиться видеть жизнь через «третий глаз», глаз кинообъектива. Это помогло бы создавать широчайшую кинохронику советской действительности, изучать ее на местах, вносить в нее эстетический, творческий план. Тогда, в середине 70-х, еще не было понятия «видеоприколы», но Рошаль опасался, что любительское движение, которое он возглавлял, без подготовленных кадров может скатиться к чему-то подобному и потерять общественное значение. Пройдя хорошую школу Рошаля в институте культуры, я, как и предпо лагал, почувствовал недостаточность полученного образования. Дипломная игровая 15-минутная работа «Вчера помер мой отец», снятая любительской 16-мм камерой, была моей единственной надеждой на пропуск во ВГИК. В этом коротком фильме на простых поступках одной семьи я с болью показал нравственную эрозию, поразившую общество, и страдания молодого человека, пошедшего на компромисс с совестью. Эту работу мне удалось показать Сергею Апполинарьевичу Герасимову с просьбой позвонить Юрию Николаевичу Озерову, набиравшему мастерскую. При мне Герасимов позвонил Юрию Николаевичу и очень деликатно объяснил необходимость просмотра ленты, заключив разговор словами: «И вам все станет ясно». Впоследствии Озеров подтвердит, что именно эта работа побудила его пойти в министерство с просьбой выделить дополнительное место для абитуриента, не набравшего проходных баллов. Так я оказался на курсе Озерова. Шел 1981 год. Приближался конец брежневской эпохи. Все общество, вся мастерская, включая мастера, ощущали необходимость перемен. Вместе с тем кино явно отставало от потребностей дня или его начинало заносить «не в ту степь». И, как я полагаю, Юрий Николаевич надеялся как-то эту ситуацию если не поправить, то оживить. Не знаю, было ли это согласовано с верхами или это была его личная инициатива, но Озеров набирал курс под девизом: «Мастерская актуального кино». Кстати, во время письменного
К 100‑ЛЕТИЮ Ю. ОЗЕРОВА 8 творческого экзамена одной из предложенных тем была такая: «Революция продолжается». Ее я и осветил с удовольствием в своем очерке и, похоже, был единственным на курсе, писавшим на эту тему. Насколько же мне близки были по духу цели мастерской! Я попал туда, куда рвалось мое сердце. Юрий Николаевич и набирал людей уже достаточно взрослых, с жизнен ным опытом. Многие были с высшим образованием, с творческим опытом, с большим или меньшим кругозором. Люди с актерским, архитектурным, музыкальным, художественным, медицинским образованием. Был моряк торгового флота с энциклопедическим знанием истории кино. Были представители отдельных союзных республик, один венгр и даже африканец. Всего курс составили 17 человек из 100 абитуриентов на место. Надо заметить, что вгиковское режиссерское образование считалось одним из самых дорогих в стране (на одного студента государство тратило 50 тысяч руб лей в тех ценах), и для нас оно было бесплатным, учебу оплачивали только иностранцы по своим расценкам. Рошаль учил студентов уметь видеть содержание жизни, читать ее, из влекать мысль и оформлять ее в кинематографической монтажной фразе. Чаще учил на примерах произведений Пушкина. «Вот, оказывается, какая штука! Вот где зарыто. Вот что надо ставить, вот оно режиссерское решение». Озеров же настраивал нас привносить готовую мысль на экран, режиссер должен быть мыслителем, мысль должна быть значимой, ответственной, первостепенной. Никаких «сю-сю, пу-пу», как он иногда говорил. «Никаких Феллини, это все прошлое. Ищите мысль новую, острую, современную», — настаивал он. И вот эти два мастера, два народных артиста СССР, один — классик кино и современник Сергея Эйзенштейна, другой — классик военной художественной кинохроники, обошедшей практически все страны мира, они во мне своими методами, подходами — соединились, сошлись как бы в одну художественную школу, в один творческий метод. Юрий Николаевич говорил, что его задача как фронтовика и как режис сера — создание военной художественной кинохроники действий штабов советской и германо- фашистской армий, художественных эпических полотен противодействия этих армий. Отразить всю вой ну через такую работу. Показать масштаб и значимость той вой ны. Это было исполнением обещаний, данных себе в период боевых действий. И вот он близок к завершению такой задачи. «А ваша задача, — обращался к нам Юрий Николаевич, — воплощать на экране современные проблемы, размах и значимость которых не меньше тех, что совершались на полях Отечественной вой ны. Надо масштабно мыслить на экране, современно». Мастер не имел в виду создание эпических картин, речь шла о значимости самой мысли, идеи фильма, ко
Георгий Реутов торая имела бы отклик у широкого зрителя. «Ни «сю-сю», ни «пу-пу», ни артхаус. Государство — это продюсер вашего творчества, цените это и уважайте. А самовыражаться будете в другом месте». Современному зрителю, особенно молодому, трудно представить, как в широкоэкранных и панорамных кинотеатрах в 1968–69 гг. смотрел зритель «Освобождение». Поражала новизна размаха штабных и боевых действий, новых персонажей. Чувствовалось приобщение к художественному документу… Это было что-то невиданное, вызывавшее восхищение и уважение. Мог ли тогда я, 17-летний паренек, сидя в зале, вообразить, что стану учиться у режиссера этого фильма? Атмосфера во ВГИКе в 80-х гг. была своеобразной. Я бы ее охарактери зовал так: еще не диссидентская, но уже не советская. К акая-то смесь, всего помаленьку. Из уст некоторых педагогов можно было даже услышать слова о приравнивании Сталина к Гитлеру, возникали разговоры про ГУЛАГ, репрессии, шло постоянное сопоставление СССР и Запада … Ну, последняя тема, кажется, уже вовсю обсуждалась на кухнях москвичей. Это понятно. Может, поэтому девиз нашей мастерской в студенческой среде откро венно вызывал усмешку. Актуальная? Ну-ну… П очему-то многими актуальность понималась как пропаганда политики партии, официоз. Ни больше ни меньше. В предпочтении были сюжеты с унылыми темами, обшарпанными стенами, скучными, недовольными скандалистами и неустроенными персонажами. Бесконечное «Вы чье, старичье». Не вся продукция института была такой, но крен туда был значительный. Это считалось некой смелостью что ли, бравадой. А по-моему, являлось следствием нежелания вникать в жизнь, в суть явления. Общая установка была такая: художник обязан ставить вопросы, а отвечать на них — не задача искусства. В целом правильно. Но правильно поставленный вопрос уже ведет к ответу, а это трудно сделать… Такая атмосфера в институте, отношение к девизу мастера напрягало часть нашей группы. Да она и была той же самой средой… Большую популярность и уважение среди студентов и педагогов полу чила инициатива Юрия Николаевича объединить, перезнакомить первокурсников — режиссеров, операторов и сценаристов с целью совместной их работы над проектами будущих картин. Создание возможных творческих союзов. Такое начинание оказалось очень полезным, многие первые учебные работы создавались совместными усилиями возникших творческих групп. Затем эта практика сохранялась и на курсовых работах. Таким образом нарабатывалась практика общения будущих специалистов разных профессий. Первая учебная игровая работа снималась на втором курсе. Разрешалась полная самостоятельность в реализации любой темы: раскрывайтесь, кто