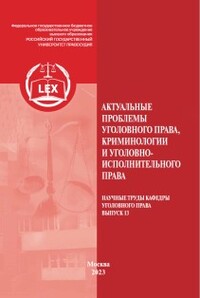Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. Выпуск 13
Научные труды кафедры уголовного права
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Уголовное право
Издательство:
Российский государственный университет правосудия
Год издания: 2023
Кол-во страниц: 208
Дополнительно
Вид издания:
Сборник
Уровень образования:
Профессиональное образование
ISBN: 978-5-00209-077-8
Артикул: 833169.01.99
В Сборник включены научные статьи профессорскопреподавательского состава кафедры уголовного права РГУП, а также работы аспирантов и соискателей, посвященные актуальным проблемам уголовно-правовых наук: уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. Адресуется научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам, может быть полезным обучающимся по программам магистратуры и бакалавриата.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 40.03.01: Юриспруденция
- ВО - Магистратура
- 40.04.01: Юриспруденция
- ВО - Специалитет
- 40.05.02: Правоохранительная деятельность
- 40.05.04: Судебная и прокурорская деятельность
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ Москва 2023 Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права Научные труды кафедры уголовного права Выпуск 13
УДК 343
ББК 67.408
А 43
Актуальные проблемы уголовного права, криминологии
и уголовноисполнительного права: Научные труды кафедры уголовного права. Вып. 13 — М., РГУП, 2023. – 208 с.
ISBN 9785002090778
Редакционный совет:
Арямов А.А., др юрид. наук, профессор;
Бриллиантов А.В., др юрид. наук, профессор;
Скляров С.В., др юрид. наук, профессор;
Дорогин Д.А., канд. юрид. наук, доцент (ответственный редактор).
ISBN 9785002090778
© Коллектив авторов, 2023
© Российский государственный
университет правосудия, 2023
А 43
В Сборник включены научные статьи профессорскопреподавательского состава кафедры уголовного права РГУП, а также работы аспирантов
и соискателей, посвященные актуальным проблемам уголовноправовых
наук: уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права.
Адресуется научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам,
может быть полезным обучающимся по программам магистратуры и бакалавриата.
Информационная поддержка СПС «КонсультантПлюс».
Содержание РАЗДЕЛ I Общие вопросы уголовного права Арямов А. А. Византийские корни российского уголовного права. . . . . . . . . . .5 Шикула И. Р., Афанасьев М. В. Актуальные проблемы возмещения вреда потерпевшему в беспомощном состоянии: теоретические и практические аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 РАЗДЕЛ II Уголовное право. Общая часть Андрианов В. К. Юридикофактическая характеристика института освобождения от уголовного наказания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Досюкова Т. В. Объект преступления в условиях субъективного вменения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Косевич Н. Р., Павлюк Т. А. Предложения по совершенствованию законодательства в области применения принудительных мер медицинского характера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ноженко М. О. Информация как предмет преступления. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Пейсикова Е. В. Малозначительность деяний в судебной практике: перспективная оценка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Простосердов М. А. Штраф как основной вид наказания в санкциях норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. . . . . . 67 Янина И. Ю. Виды уголовноправового причинения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 РАЗДЕЛ III Уголовное право. Особенная часть Антонов Ю. И., Джейранов С. С. Добровольная сдача в плен: уголовноправовая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Арнаут В. А. Несколько закладок: продолжаемый сбыт или совокупность? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Бриллиантов А. В. О субъективной стороне финансирования терроризма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Дорогин Д. А., Четвертакова Е. Ю. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за контрабанду наркотиков (ст. 2291 УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Караханов А. Н., Леткина П. А. Особенности квалификации краж из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и других смежных трубопроводов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Скляров С. В. Неправомерный оборот средств платежей. . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Талаев И. В., Глебова К. А. Уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации (ст. 207.1–207.2 УК РФ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Федик Е. Н. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием сети «Интернет» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 РАЗДЕЛ IV Уголовно-исполнительное право Бабаян С. Л. К вопросу о применении поощрительных норм в отношении осужденных к ограничению свободы и осужденных к принудительным работам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Попова Е. Э. Исправительные и принудительные работы — единство и противоположность альтернативных видов наказания . . . . . . . . . . . . . . . . 179 РАЗДЕЛ V Работы аспирантов и соискателей Баласанов М. Р. К вопросу об основаниях применения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Коробейников Д. В. Уклонение от уплаты судебного штрафа как вид негативного посткриминального поведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Эткина А. Д. Нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования (ст. 274.2 УК РФ): комментарий новеллы уголовного закона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
РАЗДЕЛ I Общие вопросы уголовного права Арямов А. А., д-р юрид. наук, профессор, проректор по научной работе РГУП, профессор кафедры уголовного права РГУП Византийские корни российского уголовного права Аннотация: Автор декларирует и аргументирует тезис о том, что отечественное уголовное право (русское/российское) изначально, с момента своего формирования, основывалось на традициях классического римского права в его наиболее развитой византийской форме. Византийское право продолжило свое действие на территории Великого княжества Московского и Русского царства и после падения Восточной Римской империи. Обоснованно следующее положение: рецепция римского права в русское уголовное право осуществлялась по двум направлениям: каноническое право и светское право; и если вектор византийского влияния на развитие светского уголовного права со временем угас, то каноническое право продолжает его испытывать и по сей день. Ключевые слова: уголовное право, ответственность, исторический анализ, Русская Правда, Устав Владимира Святого, Номоканон, Эклога, Прохирон, генезис, рецепция, влияние. Byzantine roots of russian criminal law Aryamov A. A., Doctor of Law, Professor, Vice-Rector for Scientific Work of Russian State University of Justice Professor of the Department of Criminal Law of Russian State University of Justice Abstract: In this article, the author declares and argues the thesis that domestic criminal law (Russian/Russian) was initially, from the moment of its formation, based on the traditions of classical Roman law in its most developed Byzantine form. The reception of Roman law into Russian criminal law was carried out in two directions: canon law and secular law. And if the vector of Byzantine influence on the development of secular criminal law has faded over time, then canon law continues to test it to this day. Keywords: criminal law, responsibility, historical analysis, Russian Truth, the Statute of Vladimir the Saint, Nomocanon, Eclogue, Prohiron, genesis, reception, influence. Весьма распространенным суждением в юридической науке является точка зрения, согласно которой право западной и центральной
РАЗДЕЛ I. Общие вопросы уголовного права 6 Европы исторически основывается на традициях Римского права, чем и обуславливается его «развитость» и «эталонность»; генезис же отечественного права лишен непосредственных генетических связей с Римским правом (в лучшем случае такие связи реализуются транзитом посредством польсколитовской интерпретации), что и предопределило «отсталость» отечественной правовой мысли и законодательства. Примечательно, что такой подход не теряет градуса популярности, несмотря на то, что целая плеяда авторитетнейших представителей юридической доктрины еще в ХIХв. убедительно опровергла его: И. Д. Беляев, М. Ф. ВладимировБуданов, П. С. Качалов, В. О. Никольский, В. И. Сергиевич [1, 2, 3, 4, 5]. Имела место диаметрально противоположная ситуация: это европейские государства восприняли римскоправовые традиции транзитом через их интерпретацию в варварских правдах. В отражении в европейских правовых актах правосознания римских юристов наблюдается серьезный временной (в несколько веков), географический и цивилизационный разрыв. Франкские и германские юристы творили спустя полтысячелетия после падения Рима, они как бы реанимировали архаический материал давно умерших законов и правоведов. Становление же отечественного права демонстрирует принципиально иную картину: вместе с заимствованием православного христианства рецепции подверглись и алфавит (письменность), и государственное устройство, и правовая система. Причем имело место непосредственное (без какихлибо транзитов и интерпретаций) взаимодействие двух «живых» систем. Отсутствовала реанимация архаичного материала, «трансплантировались» положения двух «живых» сосуществующих юридических «организмов». На территории Руси, а позднее и России, непосредственно действовали правовые акты Византии. Они продолжали свое действие и после падения Византии (феномен проявления принципа «переживания» действия закона во времени), а некоторые из них продолжают действовать и поныне — в сфере канонического права (нормативные акты РПЦ). Правовые обычаи раннефеодального общества вошли в контакт с импортируемыми универсальными кодифицированными правовыми актами. И это сочетание, в первом приближении несовместимых явлений, породило достаточно крепкий юридический «сплав» (условно можно провести аналогию с дамасской сталью). О чем мы более подробно уже ранее писали в своих предыдущих работах [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Впервые в историкоюридической доктрине проблематику влияния права Византии на право Древней Руси обозначил авторитет
Арямов А. А. 7 нейший ученый Н. В. Калачов: «…на каких данных утвердилась ее юридическая сила в нашем отечестве и как могла эта сила не только окрепнуть, но и развиться на нашей почве, или: каким образом чуждая нашим предкам догма Византийского права могла сделаться и у них не только каноном, но и живым, практическим источником церковного и светского судопроизводства?» [13, с. 2]. Восточная Римская империя в тот период представляла собой своеобразный цивилизационный эталон. Подражать ей в культурном или юридическом плане было незазорно; более того, даже почетно. Древняя Русь не была какимто особым исключением. Такое заимствование имело место даже во время ведения боевых действий с Цареградом. Что наглядно демонстрирует история взаимоотношений Византии с Болгарским царством. Представляется необходимым сделать следующую оговорку: диффузию правовых систем Византии и Древней Руси ни в коем случае нельзя рассматривать исключительно в призме принятия Русью православия. Взаимодействие и взаимопроникновение двух правовых систем началось еще до крещения Руси в бытность ее еще в языческом статусе (например, договоры с Греками князей Олега и Игоря). Также термины «взаимодействие и взаимопроникновение» нами применяются весьма условно; говорить о равноправном (равновекторном) взаимодействии развитой системы права Византии и находящегося в «эмбриональном» состоянии (на тот момент) права Руси не приходится. Плотный культурнополитический контакт раннефеодальной Руси с цивилизационным центром мира того времени (Восточной Римской империей) породил острую необходимость в разработке и принятии «общих правил игры» [14, с. 3]; естественно, что правовой арсенал руссов мало что мог предложить в качестве вклада в этот «совместный капитал»; это неизбежно обусловило доминирование в рассматриваемом процессе Византийского права. Назвать такой процесс компромиссом (как это делают некоторые ученые [14, с. 4]) было бы несправедливо. Взаимодействие различных правовых систем, где одна из которых находится в эмбриональном юридическом состоянии, а другая достигла апогея правового расцвета, осуществляется в формах рецепции и симбиоза. Первым опытом правового симбиоза византийского права и обычного права восточных славян/ русов являются договоры князей Олега и Игоря с Греками 911, 945 и 971 гг.; о содержании которых нам известно из Повести временных лет. Симбиоз русского и византийского в этих договорах наглядно демонстрирует следую
РАЗДЕЛ I. Общие вопросы уголовного права 8 щее положение: «вор должен быть наказан «по закону греческому и по уставу и закону русскому». Базовой рецептивной формой взаимодействия Византийского права и письменного права Древней Руси является Устав святого князя Владимира Святославовича о десятинах и церковных людях и Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах, дошедших до нас в тексте Кормчей книги XIII в. Сама концепция интеграции норм светского и канонического права была разработана и оптимизирована именно в Восточной Римской Империи и оттуда была удачно заимствована в русское правовое пространство. В доктрине проанализированы пять редакций этих документов. Заимствование актов канонического византийского права Русью (и в дальнейшем Россией) носило естественный характер; так как с крещения Руси и до 1597 г. (момент учреждения русской патриархии) русская церковь, а следовательно, и церковные суды подчинялись (организационно, методологически, нормативно…) константинопольскому патриарху [5, c. 90]. За многовековое бытие такого подчиненного бытия прочно сформировалось каноническое правовое пространство и система церковных правовых обычаев таким образом, что и после учреждения российского патриархата, и даже после его ликвидации Петром 1 и дальнейшего возрождения в ХХ в. эта связь с византийским каноническим правом не была утрачена. «Наиболее важные из реципированных кодексов суть: 1) Эклога Льва Исаврянина и Константина Копронима (739–741 гг.), усвоенная в самостоятельной переделке; 2) Прохирон Василия Македонянина (870–878 гг.), называемый в наших кормчих «законами градскими» — памятник, богатый содержанием и близкий по духу к римскому праву; но в Книгах Законных из него реципировались только некоторые, наиболее необходимые и пригодные части» [16, c. 117]. К этому ряду правовых актов можно отнести и Номоканон Иоанна Схоластика (составной частью которого были правила четырех вселенских — Халкидонского, Эфесского, Константинопольского и Никейского — и шести поместных соборов) в пятидесяти титулах, и Номоканон в четырнадцати титулах с хронологической синтагмой канонов в редакции патриарха Фотия (в котором особый интерес представляет Титул IХ о преступлениях епископов и клира), Эпанагогу 1876 г., Василики 890 г. и, разумеется, Дигесты Юстиниана. В Повести временных лет нашел отражение (правда не закрепленный в дошедших до нас правовых актах) первый случай в отечествен
Арямов А. А. 9 ном праве — введение моратория на смертную казнь: после принятия православия великий князь Владимир Святославович запретил казнить разбойников: «ибо, говорил он, боюсь греха» — в результате клирикам пришлось объяснять неофиту, что наказание преступников — не грех, а долг правителя [17, c. 4]. Насколько достоверно это повествование, сегодня сказать трудно, но данный сюжет отражает сложный процесс «творческих метаний» в предверии создания Устава. Достаточно распространенной является точка зрения, согласно которой жестокие виды наказания, популярные в Восточной Римской Империи, не были восприняты правосознанием юристов Древней Руси; в силу чего не нашли своего отражения ни в Русской Правде, ни в судных грамотах, ни в судебниках [18, c. 118–120]. Так, в соответствии с Титулом XII Дигест «Наказания за преступления» наказывалось: лжеприсяга, данная на Евангелии — отрезанием языка; посягательство на клирика в церкви — сечением плетьми и изгнанием; алтарное хищение — ослеплением; разврат — сечение плетьми (12 ударов женатому и 6 холостому); скотоложство — также ослеплением; соблазнение монахини, крестницы, изнасилование — отрезанием носа; инцест и мужеложство — смертная казнь. Действительно, ни один из этих составов преступлений и видов наказаний ни в Русской Правде, ни в иных правовых актах исследуемого периода не отражены. Но в летописях нередко зафиксированы случаи рассмотрения уголовных дел с вменением именно таких преступлений и назначением именно таких наказаний. Например, дело Луки Жидяты. Необходимо учитывать, что рецептируемый нормативный материал и сам по себе был отражением достаточно острого противоречия: между возвышенножертвенным христианским духовным содержанием и прагматической юридической формой. Наглядный пример: «Номоканон 14ти титулов» как форма проявления римского правосознания не отрицал «авторитета евангелической жертвенности, но в условиях земных реалий руководствовался своими, во многом отличными от церковного взгляда принципами в области охраны жизни, собственности и чести иноков от посягательств воров, оскорбителей, насильников» [19, c. 31–53]. Например, п. 4 Титула 17 Эклоги гласил: ударивший священника подлежит сечению кнутом и изгнанию, а похитивший или обесчестивший монахиню — отсечению носа. Подобное несколько диссонирует с христианским милосердием и «…ударили по левой щеке, подставь правую».
РАЗДЕЛ I. Общие вопросы уголовного права 10 Естественно, подобное диалектическое противоречие в процессе рецепции унаследовало от Византии и русское право. Примером тому может служить дело Луки Жидяты, которого оговорили холопы, что повлекло его заточение в Киеве; виновному в оговоре Дудице бил отрезан нос и обе руки [19, c. 35]. Поскольку в правовых актах того периода отсутствовало упоминание о такого рода телесных наказаниях, постольку можно сделать выводы: а) либо к данному случаю было применено непосредственно византийское право; б) либо в этом деле нашел проявление иной отечественный правовой регулятор того периода помимо писанного права, например правовой обычай. То, что это событие не единично подтверждает и расправа над ростовским епископом Федорцом, спустя век после рассмотренного выше дела подвергнутым телесному наказанию; в 1230 г. умер в заточении после отстранения от должности юрьевский игумен Савва; известен суд Андрея Боголюбского (приговоривший виновных к казни) за смерть ростовского епископа Федора, притчей во языцех является «неправый суд» над Требовальским князем Васильком [19, c. 36]. Ни телесные наказания, ни отстранения от должности, ни пожизненное лишение свободы правовыми актами того исторического перио да не предусматривались. Рассмотренные казусы ярко опровергают суждение некоторых историков правоведов о гуманности древнерусского права, не знавшего суровых наказаний и казней (поскольку они не отражены в письменных документах) [2, c. 417–418]. Примечательна попытка закрепления в Эклоге такого варианта правомерного причинения вреда, как убийство оскорбленным супругом любовника, непосредственно застигнутого у собственной жены. Причинитель смерти в таком случае не признавался убийцей и не подлежал ответственности. Но такая привилегия не распространялась на жен. Не признавалось оправданием и причинение смерти любовнику, не застигнутому на месте прелюбодеяния. Также обращает на себя внимание, что допускалось убийство любовника, но не жены — проявление имущественной природы брачносемейных отношений. Данное положение непосредственно в текстах отечественных юридических исторических памятников не нашло закрепление; но полагаем, что общее принятие русским правосознанием такого положения вещей имело место, так как оно корреспондируется с множеством норм русского права и обычая вплоть до Стоглава и Домостроя. Генезис отечественного публичного (и прежде всего уголовного права) наглядно демонстрирует органическую связь с римским пра