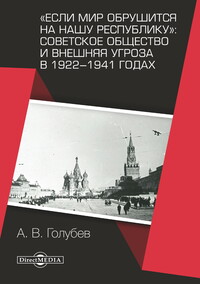«Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922-1941 годах
Покупка
Тематика:
История Советского Союза
Издательство:
Директ-Медиа
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 290
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-4499-0261-0
Артикул: 807973.01.99
Монография, написанная большей частью на основании впервые вводимых в научный оборот архивных источников, посвящена малоизученной теме — особенностям массового сознания советского общества в 20-30-е годы; сюжетам, связанным с «закрытостью» СССР; ожиданиями будущей войны: образам врага и союзника и т. п. Работа может представлять интерес как для специалистов, так и для всех интересующихся историей нашей страны. Текст печатается в авторской редакции.
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Институт российской истории РАН А. В. Голубев «ЕСЛИ МИР ОБРУШИТСЯ НА НАШУ РЕСПУБЛИКУ»: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВНЕШНЯЯ УГРОЗА В 1922–1941 ГОДАХ Монография Издание 2-е, исправленное и дополненное Москва Берлин 2019
УДК 94(47).084 ББК 63.3(2)61-72 Г62 Рецензенты: Д. и. н. Л. Н. Нежинский; К. и. н. Б. А. Филиппов Голубев, А. В. Г62 «Если мир обрушится на нашу республику»: Советское об щество и внешняя угроза в 1922–1941 годах : монография / А. В. Голубев. — 2-е изд., исправ. и доп. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 289 с. ISBN 978-5-4499-0261-0 Монография, написанная большей частью на основании впервые вводимых в научный оборот архивных источников, посвящена малоизученной теме — особенностям массового сознания советского общества в 20–30-е годы; сюжетам, связанным с «закрытостью» СССР; ожиданиями будущей войны; образам врага и союзника и т. п. Работа может представлять интерес как для специалистов, так и для всех интересующихся историей нашей страны. Текст печатается в авторской редакции. УДК 94(47).084 ББК 63.3(2)61-72 ISBN 978-5-4499-0261-0 © Голубев А. В., текст., 2019 © Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2019
Посвящается памяти отца и деда
«Вовремя подмечать и улавливать
потребности и настроения»:
Попытка введения
Представления об иных этносах, странах, культурах —
неотъемлемая и принципиально важная составляющая национального самосознания, ибо именно эти представления позволяют судить о том, как данная нация видит свое место в мире,
как она определяет отношение своей культуры к другим культурам, своей системы ценностей к системам ценностей иных
народов. Эти представления, как правило, не только включают
в себя те или иные мнения, но и выражают эмоциональное отношение к объекту. Они различаются по степени их достоверности и детализации, а также, иногда существенно, по эмоциональной окраске; складываются исторически и зависят от ряда
факторов — от того, кто выступал их носителем («книжники»,
естественно, имели гораздо более детальные и достоверные
представления о том или ином народе по сравнению со стереотипами, существовавшими в массовом сознании), а также от
территориальной близости, длительности исторических связей с данным народом, характера этих связей и т. д.1
В большинстве исследований, посвященных представлениям о внешнем мире, иных этносах, культурах, государствах,
речь идет об этнических стереотипах, под которыми понимаются, соответственно, образы этнических групп 2. Однако это
понятие является односторонним, ибо подразумевает лишь
представления об определенных чертах национального характера, обычаях, особенностях быта. Но есть еще представления
о тех или иных государствах, которые составляют важную
часть картины внешнего мира, есть представления о мировой
культуре и т. д.
1 О формировании подобных представлений в ходе российской истории см.:
Борисов Ю. С., Голубев А. В., Сахаров А. Н. История. Россия и Запад // Образ
России. Русская культура в мировом контексте. М., 1998. С. 21–37.
2 Обзор литературы по данной проблеме см.: Зак Л. А. Западная дипломатия и
внешнеполитические стереотипы. М., 1976; Россия и Запад. Формирование
внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой
половины ХХ века. М., 1998.
Столь же односторонним является и другое понятие —
внешнеполитические стереотипы3, ибо в этом случае как
бы за рамками остаются представления о быте, культуре,
национальном характере. Вместе с тем, внешнеполитические
стереотипы представляют собой следующий этап в восприятии внешнего мира.
На определенной стадии этнические и внешнеполитические стереотипы дополняются и частично вытесняются инокультурными стереотипами, которые включают в себя, помимо прочего, представления о той или иной национальной
истории, культуре, современной жизни.
Именно на основе инокультурных стереотипов возникают
так называемые образы, которые отличаются от стереотипов
полнотой, большей гибкостью, меньшей эмоциональной составляющей; они включают в себя, как правило, личный опыт,
и возникают в индивидуальном порядке, а не передаются готовыми, как стереотипы4.
Вместе с тем термин «инокультурные стереотипы» может
применяться и как общий, относящийся ко всей совокупности
устоявшихся представлений о внешнем мире (этнических,
внешнеполитических и пр.)5
В последнее время появилась и приобрела определенное
признание концепция географических образов, сформулированная Д. Н. Замятиным: «Географические образы — это достаточно
устойчивые,
стратифицированные
и
динамичные
геопространственные представления, которые соотносятся
с какими-либо
политико-,
историко-
или
культурно
3 Этот термин был предложен еще в 1960-е годы (наравне с «дипломатическими
стереотипами»). См.: Зак Л. А. Указ. соч. С. 76–103. С середины 1990-х годов он
широко включается в научный оборот. См., например: Голубев А. В. Запад глазами советского общества (Основные тенденции формирования внешнеполитических стереотипов в 30-х годах) // Отечественная история. 1996. № 1.
С. 104–120; Россия и Запад. Формирование внешнеполитических стереотипов
в сознании российского общества первой половины ХХ века; и др.
4 О разнице между образами и стереотипами см.: Егорова Е., Плешаков К.
Концепция образа и стереотипа в международных отношениях // Мировая
экономика и международные отношения. 1988. № 12.
5 См.: Голубев А. В. Эволюция инокультурных стереотипов советского общества // 50 лет без Сталина: наследие сталинизма и его влияние на историю
второй половины ХХ века. М., 2005. С. 98–116.
географически выделенными территориями»6. Однако если
сам автор концепции подразумевает под географическими образами прежде всего «геопространственные представления»,
некоторые его последователи идут гораздо дальше. Как подчеркивает А. А. Василенко, «базовым для исследования является концепция географических образов», при этом «образ Германии понимается как определенная целостность ощущений и
пространственных представлений, обусловленная знаниями о
географии страны (природа, ландшафты, важнейшие реки и
т. п.), а также представлениями о политическом устройстве
страны, ее истории, культуре, быте, нравах и т. п.; причем разносторонние сведения о стране способствуют формированию
устойчивого, целостного образа»7.
Столь расширительное толкование «географических образов» трудно признать удачным: представления о политике, истории, культуре, быте и т. д. далеко выходят за рамки географии; более того, чисто географические представления играют
в образе страны явно второстепенную роль.
Говоря о формировании инокультурных стереотипов как
коллективных представлений, необходимо подчеркнуть одну
особенность этого процесса. Как известно, само наличие, сложность и адекватность представлений о внешнем мире зависят
от двух факторов: возможности получать информацию и желания получать информацию. Очевидно, что их наличие не всегда
совпадает, и человек, по своему статусу имеющий доступ к информации, скажем, о внешнем мире, может совсем не использовать свои возможности. С другой стороны, человек обладающий навыками аналитического мышления, в современном
обществе может при желании извлекать достаточную информацию из самых разнообразных, иногда случайных и поверхностных, источников.
Модернизация как переход от традиционного общества к
индустриальному, помимо реформы политического строя, возрастания социальной мобильности, индустриализации, урбанизации, роста образования включает в себя также необратимые
6 Замятин Д. Н. Гуманитарная география. Пространство и язык географических образов. СПб., 2003. С. 183.
7 Василенко А. А. Образ Германии в интеллектуальной среде России 30–40-х гг.
XIX в. Автореф. канд. дисс. Омск, 2007. С. 18.
изменения в системе ценностей, в глубинных основах культуры. Именно с этой точки зрения попытаемся проследить динамику восприятия Запада как одновременно эталонного и альтернативного
культурно-исторического
типа
массовым
сознанием советского общества.
В начале ХХ века в российском обществе происходит постепенное вытеснение традиционных этнических стереотипов
стереотипами с ярко выраженной политической окраской или
внешнеполитическими стереотипами. Другими словами, образ
немца, англичанина, поляка в значительной степени сменяется
образом Германии, Великобритании, Польши как геополитической реальности.
Внешнеполитические стереотипы имели важное отличие:
они обладали относительно большей гибкостью, так как зависели от конкретной международной ситуации и в значительной степени формировались официальной пропагандой. Вместе с тем важно уточнить, что далеко не все изменения
международного контекста и далеко не все зигзаги пропаганды оказывали воздействие на массовое сознание; в случаях же,
когда подобное воздействие фиксируется источниками, оно
нередко приводит к самым неожиданным последствиям.
Подобные представления господствовали в массовом сознании на протяжении всего межвоенного периода. Этому способствовала всеобщая политизация массового сознания, вызванная потрясениями начала века. Сначала — проигранная
русско-японская война, заставившая даже тех, кто никогда не
интересовался политическими вопросами, по-новому взглянуть на место России в мире; революция 1905 г. и последовавшие за ней изменения в политическом строе государства и
жизни деревни. В еще большей степени на массовое сознание
повлияла первая мировая война. Как писала газета «Московская копейка» 19 января 1915 г., «темный деревенский народ,
как никто, интересуется войной, попавшая в деревню газета
прочитывается и перечитывается по нескольку раз, зачитывается до дыр, до лохмотьев. Читают вдумчиво, разбирая внутренний смысл каждой строчки»8. В годы войны, как вспоминал
8 Цит. по: Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период первой мировой войны (1914 — март 1918 г.)
Екатеринбург, 2000. С. 110.
впоследствии провинциальный издатель, тираж губернской
газеты вырос с 7 до 10 тыс. экземпляров, причем впервые газету стали выписывать рабочие (хотя пока и немногие).
В ходе войны Запад (расколовшийся на врагов и союзников9)
стал вызывать не просто интерес, но интерес в высокой степени
эмоционально окрашенный. Наблюдатели последовательно
фиксировали невиданный всплеск антигерманских настроений,
целенаправленное формирование «образа врага» в лице немцев
и их союзников, а к концу войны — стихийные, но все же достаточно распространенные антисоюзнические и даже, хотя в гораздо меньшей степени, прогерманские настроения10.
Вспоминая в феврале 1925 г. динамику массовых настрое
ний времен мировой войны, М. М. Пришвин записал в дневнике: «История осознания простолюдином войны и революции
как эволюция представления о враге:
1) Немец — враг (отечество).
2) Немец превращается во внутреннего немца: душат шпионов.
3) Внутренний немец — помещик (Вильгельм прилетел на
аэроплане к такому-то помещику и забрал планы).
4) Внутренний немец продал Москву и Петроград (письмо
с фронта).
5) Внутренний немец — буржуазия (начало революции).
6) В поисках внутреннего немца (врага) дошли до середняка...»11.
9 О формировании и функционировании «образа врага» в российском обществе первой половины ХХ в. см.: Сенявская Е. С. «Образ врага» в сознании
участников первой мировой войны // Россия и Европа в XIХ–ХХ веках. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996. С. 75–85; Она
же. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М., 1997. С. 36–75;
Россия и Запад... С. 235–274. Об «образе союзника» см.: Голубев А. В., Поршнева О. С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М., 2012. Голубев А. В. «Царь Китаю не верит...» Союзники в представлении российского общества 1914–1945 гг. // Россия и мир глазами друг
друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 1. М., 2000. С. 317–355; Россия и
Запад... С. 275–290; Сенявская Е. С. От временных союзов к военнополитическому противостоянию: динамика восприятия Англии, Франции и
США в российском и советском общественном сознании первой половины
ХХ века // Проблемы российской истории. Вып. 6. Магнитогорск, 2006.
10 Подробнее об этом см.: Поршнева О. С. Указ. соч.; Россия и Запад... С. 53–67.
11 Пришвин М. М. Дневники. 1923–1925. Кн. 4. М., 1999. С. 227.
Однако мировая война, при всей своей масштабности, оказалась лишь прологом к гораздо более сильным социальным,
политическим, культурным, и, разумеется, психологическим
потрясениям — свержению монархии, возникновению Российской республики, большевистской революции, гражданской
войне. И Пришвин пишет: «После этого центральная власть
окончательно утвердилась и, прибрав всех к рукам, начала все
сначала: внутренний немец опять вывернулся вовне и стал
всемирной буржуазией. Началась война против всего света:
значит, предмет опять исчез...»12
Победа революции привела к дальнейшей мифологизации
массового сознания, особенно в эпоху существования тоталитарного политического режима, в 1930–50-е годы. Этот режим,
как и все режимы данного типа, отличался двумя особенностями. Во-первых, он стремился контролировать не только те
или иные действия, но также эмоции и мысли населения. Вовторых, подобные режимы обладают способностью создавать
для себя массовую поддержку. Одним из основных средств достижения этого являлась мобилизация общества или его значительной части для достижения единой цели, имеющей общенациональное значение.
Уже эти особенности тоталитарных режимов указывают на
их тесную связь с процессами, происходящими в массовом сознании. С ними связано возникновение этого типа режимов; с
другой стороны, тоталитаризм не мог не наложить отпечаток на
общественное сознание. В частности, он способствовал консервации мифологического типа сознания, на который опирался13.
В качестве общенациональной цели, способствующей его
легитимизации, сталинский режим выдвигал программу качественного обновления страны, включающую индустриализацию, преобразование сельского хозяйства и культурную революцию. В сущности это была программа модернизации (хотя
сам термин и не употреблялся), ведущая к превращению России в индустриальное общество. процесс модернизации сам по
12 Пришвин М. М. Дневники. 1923–1925. Кн. 4. М., 1999. С. 225.
13 Подробнее см.: Голубев А. В. Мифологизированное сознание как фактор
российской модернизации // Мировосприятие и самосознание русского общества (ХI–ХХ вв.) М., 1994. С. 187–204; Он же. Тоталитаризм как феномен
российской истории ХХ века // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20–40-е гг.) М., 1999. С. 7–33.
себе сокращал сферу мифологического сознания, по крайней мере, это происходило в других обществах. Впрочем, эти последствия модернизации проявились лишь какое-то время спустя.
В отличие от режимов авторитарных, тоталитарный режим
не стремился держать массы в стороне от политики, напротив,
происходила всеобщая, сознательно подталкиваемая политизация массового сознания. Уже в первые годы после революции была создана невиданная в истории система учреждений и
механизмов, преследующих чисто пропагандистские цели.
Определенная картина внешнего мира представляла собой
неотъемлемую часть официальной мифологии. В полном соответствии с описанными выше механизмами мифологического
сознания она представляла мир как арену великой борьбы
между силами прогресса, олицетворяемыми в первую очередь
коммунистическим и рабочим движением, и силами реакции,
причем победа первых была неотвратима, как второе пришествие Христа в представлении верующих.
И новый жизненный опыт, полученный российским обществом, и все расширяющаяся система официальной пропаганды вели к тому, что внешний мир, даже в отдаленных районах
страны, в сельской «глубинке», на национальных окраинах,
стал восприниматься как некая реальность, имеющая отнюдь
не абстрактное, а вполне практическое значение для повседневной жизни (в том числе для ведения крестьянского хозяйства, для уровня жизни рабочей семьи и так далее).
Порой ощущение этой взаимосвязи принимало анекдотические формы. Так, в мае 1924 г. М. М. Пришвин записал в
дневнике: «Отставка Пуанкаре14. Мне отказали в издании
книжки, мотивируя тем, что в переживаемый момент приходится отказаться от беллетристики. Дня через два я встречаю
Тальникова, и он мне говорит, что, по всей вероятности, книжку мою издадут: передумали. А на мой вопрос, почему такая
перемена, Тальников ответил, что за эти дни неожиданно слетел Пуанкаре, от этого наши повеселели и решили пока что...
издавать беллетристику.
14 Пуанкаре Раймон (1860–1934), президент Франции в 1913 — январе
1920 г., премьер-министр в 1912 — январе 1913, 1922–1924 и 1926–1929 гг.,
неоднократно занимал пост министра. Проводил милитаристскую политику
(прозвище «Пуанкаре-война»), один из организаторов интервенции в период
Гражданской войны в Советскую Россию.
— А вот если, — сказал Тальников, — там выберут Эрио15,
то и совсем будет хорошо, я вам советую подготовить книгу
рассказов в духе вашего последнего. На случай, если выберут
Эрио.
Когда я приехал в провинцию, торговец Елизаров стал меня
расспрашивать о новостях, выпытывая узнать, кто теперь руководит политикой и какие надо ему иметь виды на будущее
в своем торговом деле, я ему ответил, что его будущее зависит
от Эрио... Он вытаращил глаза»16.
Удивление торговца понятно; но даже из приведенного отрывка видно, что постепенно, порой еще не до конца осознанное, почти инстинктивное, но уже очевидное понимание целостности мира, частью которого являлась Советская Россия,
переставало быть прерогативой лишь образованных слоев
населения.
Своеобразной иллюстрацией этого может служить письмо
активиста А. И. Вашкурцева в «Крестьянскую газету» (февраль
1927 г.). где он предлагает на партсобраниях в деревне на первое место ставить не вопросы международного положения, а
местные, «не то что каких-то Макдональдов да У Пей Фу, которых ему и не выговорить». Словом, сначала о деле, а потом
можно и о Чемберлене... И тут же — подборка писем селькоров
с общим красноречивым названием «Довольно рады мужики
занятию Шанхая»17.
Очевидно, что речь идет не об этнических, а именно
о внешнеполитических стереотипах, которые доминировали
в общественном сознании в 1920–1950-е годы.
Мир представал как в качестве источника вполне реальной угрозы (угрозы военной, угрозы для установившегося политического строя), так и, напротив, в качестве источника
благоприятных изменений. В последнем случае речь идет не
только о противниках Советской власти, ждавших извне осво
15 Правильно — Эррио. Эррио Эдуар (1872–1957), лидер французский партии
радикалов. С 1916 г. неоднократно занимал пост министра. Премьер-министр
в 1924–1925, 1926, 1932 гг. Правительство Эррио установило дипломатические отношения (1924) и подписало договор о ненападении (1932) с СССР.
В 1947–1954 гг. председатель Национального собрания, в 1905–1955 гг.
(с перерывом) мэр Лиона.
16 Пришвин М. М. Дневники. 1923–1925. Кн. 4. М., 1999. С. 118.
17 ЦДООСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1116. Л. 24, 43.