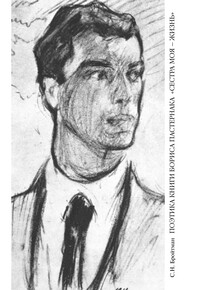Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь»
Покупка
Тематика:
Теория литературы
Издательство:
Прогресс-Традиция
Автор:
Бройтман Самсон Наумович
Год издания: 2007
Кол-во страниц: 608
Дополнительно
Вид издания:
Сборник
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 5-89826-255-5
Артикул: 780335.01.99
Настоящее издание - последняя работа Самсона Наумовича Бройтмана, известного исследователя русской поэзии, много лет изучавшего творчество Бориса Пастернака. Автор посвятил ее книге стихов известного поэта «Сестра моя — жизнь». В первой части, «Поэтика книги стихов», ученый рассматривает книгу как целое, исследует историю ее создания и публикаций, научную литературу, посвященную этому сборнику. Во второй части труда, «Поэтика стихотворений», подробно разбираются все стихотворения книги.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
С.Н. Бройтман ПОЭТИКА КНИГИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА «СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ» М. 2006
УДК 821 ББК 81.205 Б 88 Редактор Л.Н. Павлова Бройтман С.Н. Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь». — М.: ПрогрессТрадиция, 2007. – 608 с. ISBN 5898262555 Настоящее издание – последняя работа Самсона Наумовича Бройтмана, известного исследователя русской поэзии, много лет изучавшего творчество Бориса Пастернака. Автор посвятил ее книге стихов известного поэта «Сестра моя — жизнь». В первой части, «Поэтика книги стихов», ученый рассматривает книгу как целое, исследует историю ее создания и публикаций, научную литературу, посвященную этому сборнику. Во второй части труда, «Поэтика стихотворений», подробно разбираются все стихотворения книги. © Бройтман М.С., 2007 © Ваншенкина Г.К., оформление, 2007 © ПрогрессТрадиция, 2007 ISBN 5898262555 Б 88 ББК 81.205 На переплете: Л.О. Пастернак. Портрет Бориса Пастернака, 1916 г.
ВВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ «СЕСТРЫ МОЕЙ – ЖИЗНИ» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Наша работа посвящена поэтике только одной, хотя, может быть, самой представительной книги зрелого Пастернака (если ранними считать опыты 1909–1912 годов, «Близнеца в тучах» /1914/ и «Поверх барьеров» /1917/, а «поздним» – творчество 40–50х годов). Ввиду локальности избранного материала, мы не претендуем на то, чтобы осветить своеобразие всей лирики поэта или ее какогото этапа. Нас интересует поэтика именно «Сестры моей – жизни», но, думаем, что понимание ее будет иметь более широкое значение, чем описание только одной книги. Начнем с анализа того, что уже сделано, различая, как интерпретированы в научной литературе о поэтике Пастернака разные аспекты его художественного мира. Мы будем исходить из концептуально осознанного М.М. Бахтиным факта событийности эстетического объекта, архитектоника которого определяется отношениями субъектов – автора, героя и слушателячитателя (15*). Именно из структуры этих отношений вырастают другие архитектонические и реализующие их композиционные формы. Поэтому естественно начать критический обзор литературы по поэтике Пастернака с изучения субъектной сферы. I. Субъектная архитектоника О своеобразии субъектной архитектоники пастернаковской лирики почти одновременно заговорили в 30е годы И.И. Иоффе и Р.О. Якобсон. От них и идут две линии понимания проблемы. 1 По формулировке Иоффе, Пастернак дает как бы «конкретную множественность психики», что и породило главную особенность словеснообразного строя его лирики: соположение нескольких пересекающихся семантических линий (123, с. 469–470). Ученый, к сожалению, не развернул свою гипотезу, не откликнулись на нее в полной мере и те, кто позже писал о Пастернаке. Тем не менее многие исследователи видели, что «я» героя и «ты» героини у Пастернака не моносубъектны или, по крайней мере, имеют особый статус. Так, очевидно, что героиня книги – и женщина, и «жизнь», и «природа», и душа одновременно. Не столь явно, но, несомненно, таким же единомножественным предстает лирическое «я», хотя понастоящему это писавшими о «Сестре моей – жизни» не осознано. Однако замечено, что первое лицо в книге «отодвигается на задний план» (351, *Цифры в скобках соответствуют номеру в списке литературы, помещенному в конце наст. изд.
с. 329) и что у Пастернака «в отличие от Блока, Цветаевой, Маяковского, Есенина, лирическая партия сравнительно редко ведется <…> от первого лица» (267, с. 19). Пастернак «мало рассказывает о себе и от себя, старательно убирает свое “я”. При чтении его стихов подчас возникает иллюзия, что автора нет и в помине, что он отсутствует даже как рассказчик, как свидетель, видевший все, что здесь изображено. Природа объясняется от собственного имени» – Они /облака/ замечают: с воды похудели Заборы заметно, кресты – слегка*. Не поэт замечает, а «облака замечают», также, как в другом месте – не поэт вспоминает о детстве, а «снег припоминает мельком, мельком: / спатки называлось…». В одном из поздних стихотворений «Заморозки» мы тоже сталкиваемся с таким несколько необычным изображением, в котором пейзаж и зритель словно поменялись ролями и сама картина разглядывает стоящего перед ней человека (267, с. 20). Приведем строки, на которые ссылается А.Д. Синявский: Холодным утром солнце в дымке Стоит столбом огня в дыму. Я тоже, как на скверном снимке, Совсем не отличим ему. Пока оно из мглы не выйдет, Блеснув за прудом на лугу, Меня деревья плохо видят На отдаленном берегу. Ср.: «Меж мокрых веток с ветром бледным / Шел спор. Я замер. Про меня!» («Душная ночь»). Такого рода художественные структуры были интерпретированы как преодоление поэтом «эгоцентрической точки зрения», свойственной, например, Блоку (134, с. 48) и как введение в лирику «принципа относительности» (134, с. 45). Другой исследователь говорит о «надсубъективности» лирической эмоции Пастернака, возводя ее генезис к поэзии А. Фета и И. Анненского. Он ссылается на пересказ в «Людях и положениях» ранних тезисов «Символизм и бессмертие» (в которых поэт утверждал, что субъективность «не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное») и иллюстрирует его «Определением творчества», где «главный герой – таинственная сила, некое оно», «не выраженное индивидуальным лицом» (186, с. 409). Эту особенность пастернаковской интенции автор связывает с возрождением у поэта пушкинской гармонии между человеком и миром (187, с. 388–389). В ином ракурсе – «коммуникативном» – видит соотношение «я» и «мира» у Пастернака Е. Фарино: «В случае Пастернака существенно как раз удвоение воспринимающего субъекта, коммуникация с мировым текстом протекает не непосредственно “миря”, а “мирмир”, где “мирадресат”, естественно, может считаться двойником “я”. Дело, однако, в том, что, удваивая адресата, пастернаковский «я» становится не на позицию воспринимающего текст, а на позицию воспринимающего проте*Здесь и далее стихи Б. Пастернака цитируются по: Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы в 2 т. Л: Советский писатель, 1990.
кающую в мире коммуникативную ситуацию. Не текст, а акт коммуникации является мироопределяющей единицей пастернаковской поэтики. Выключенный из мира, пастернаковский “я” становится свидетелем происходящего в мире. Включенный же в мир – объектом коммуникации (ср. в “Душной ночи”: “У плетня / Меж мокрых веток с ветром бледным / Шел спор. Я замер. Про меня!”) или же ее участником, но тогда ему дан не весь мир (не весь текст), а некая его субъектная часть, а сам он превращается в однородный с окружением элемент мира» (300, с. 45). Еще раньше внимание исследователей привлекла эллиптичность речи Пастернака, в частности характерные пропуски местоимений. Обычно в таких случаях, как замечает Ю.И. Левин, «мы имеем дело с действием, субъект или объект которого не назван или назван неясно. Этой особенности текста соответствует такое моделирование мира, в котором первенство отдается действию, движению – при сравнительно второстепенной роли самого движущегося объекта» (141, с. 211). Другому аспекту характерного для Пастернака эллипсиса местоимений посвящена специальная статья Вяч. Вс. Иванова. В ней на материале почти половины стихотворений «Сестры моей – жизни» показано, что у поэта глагол и личные его формы как бы стремятся не иметь выраженного субъекта. Не названное прямо лицо в таких случаях, как правило, домысливается из заглавия стихотворения (108, с. 167). Притом «совершенно не важно, какие (в этом стихотворении многочисленные) (речь идет о «Звезды летом». – С.Б.) предметы (которые формально могли бы претендовать на роль субъекта при личных глагольных формах “без хозяина”) названы непосредственно перед данными строфами» (108, с. 172) (ср. наблюдение Иоффе над тем, что слова у Пастернака стоят не там, где они с учетом ближайшего контекста должны были бы стоять). Вяч. Вс. Иванов фиксирует «зыбкость» границы между этим приемом и другим – «широким использованием бессубъектных, безличных и неопределенноличных конструкций» (108, с. 176) являющихся отмеченной чертой архаического синтаксиса. А.К. Жолковский же прямо акцентирует «глубинное пастернаковское представление» о «мощной безличной силе, сводящей воедино все отдельные явления видимого мира», говорит о «безличности людей» в его стихах (102, 235) или о сочетании «подвижности и творческой активности четко выраженного “я”» и «безличнопассивной подверженностью внешним впечатлениям» (102, с. 243). Здесь грамматика Пастернака становится воплощением его жизненнофилософской позиции, которая выразилась уже в ранней работе «Символизм и бессмертие» (108, с. 179). Во всех отмеченных интерпретациях акцентирован «неэгоцентрический» либо «безличный» статус субъекта у Пастернака и если не диалогическая, то коммуникативная его интенция. 2 Но существует и другое понимание проблемы. Р. Якобсон, одним из первых отметивший «редукцию» лирического субъекта у поэта, считал, что «это лишь иллюзорное пренебрежение “мной” (“я”): вечный лирический герой, несомненно, здесь. Его присутствие стало метонимическим <…>. В пастернаковском лиризме образы внешнего окружения оказываются отброшенными бликами, метонимическими выражениями лирического “я”» (351, с. 329). Такой подход был развит Й. Ужаревичем, который увидел в пастернаковской постановке субъекта не стремление к преодолению субъективности, а косвенный способ еще большего ее утверждения. По Ужаревичу, Пастернак совершил в истории лирического мышления коперникианский переворот: у него не «я» рефлексирует над объектами действительности,
«изъясняется» о них и «вращается» вокруг «вещей», как было в поэзии до того, а сами «вещи (объекты) вращаются вокруг “я”» и «выражают (проявляют) свое отношение» к субъекту» (397, с. 24). Однако при этом, по мнению ученого, «не отменяется онтологическая оппозиционная связь “я”действительность, т. е. не отрицается центральная роль лирического “я”, но усложняется система отношений “я” и вещей в направлении их большей опосредованности»: «лирическое “я” превращается в пустой, структурно минимально выраженный центр лирического космоса. Получается своеобразный парадокс: лирическое пространство наполняется объектами, которые одновременно и вытесняют (замещают) и раскрывают (автобиографизируют) субъект этого пространства. Лирическое “я” становится «пустым местом», которое, по принципу вакуума, притягивает к себе пастернаковский центрифугально устроенный мир. Парадоксальность состоит в том, что объективность данной лирики в поэтическологическом смысле является на самом деле автобиографичной и субъектной» (397, с. 24). В последнем – отличие поэта от Мандельштама, у которого «частная жизнь» в стихах почти отсутствует (397, с. 24), и Маяковского, чье лирическое «я» «представляет собой “прямой объект” его творчества» (397, с. 26). Ужаревич рассматривает несколько вариантов такой постановки субъекта в лирике Пастернака. Первый вариант представлен, например, в стихотворении «Весна, я с улицы, где тополь удивлен» (1918, «Темы и вариации»). Здесь «я» прямо говорит не о себе, а об «улице», но улица дается в кругозоре и локальной семантике «выписавшегося из больницы». Возвращаясь назад (или совершив постперцепцию – ход, отмеченный уже исследователями поэзии А. Ахматовой. – С.Б.), «мы обнаруживаем, что “выписавшийся из больницы” это и есть Я» (397, с. 27). Для оценки этого варианта следует учесть: перед нами очень распространенный в русской поэзии ХIХ–ХХ веков тип высказывания, при котором субъект речи, выступая как «я», одновременно смотрит на себя со стороны, как на «другого» – в данном случае как на третье лицо – на «него», «выписавшегося из больницы» (47, с. 24)1. Своеобразие Пастернака на фоне поэтической традиции не в том, что он, якобы, превращает «я» в «пустой центр компановки, к которому обращены предметы (вещи, явления, движения) внешнего мира» (397, с. 26), а в том, что «другой» здесь перестает быть откровенной ипостасью «я» и наделяется такой степенью «инаковости», что уже не может быть однозначно опознан именно как «я»: это почти буквально другой, переживший «второе рождение» и нераздельный, но и неслиянный и с прежним «я», и с миром. Это хорошо почувствовала М. Цветаева: «Удивлен – пугается – боится?.. Кто… больной выходит из больницы? Сам поэт <…>? Нет, тополь, дом, даль – и, в них и через них, Пастернак. Тополь, удивляющийся внезапно возникшей дали, дома, словно пугающиеся крутизны и падающие, лишенные своих снежных подпорок. А узелок с бельем – у больного, выписавшегося из больницы? Нет, сам воздух, чистый, вымытый, залитый весенней синью. (И – картина больничных халатов на веревке над лужей, развевающихся, плещущихся.) А все вместе – образ спотыкающегося от немощи и счастья – “я”» (326, с. 415). Второй рассмотренный Ужаревичем вариант: «лирическое “я” выступает как предмет наблюдений или обсуждений окружающих его природных, атмосферных, архитектурных персонифицированных явлений» (397, с. 27). Если А. Синявский, И. Ковтунова, В. Мусатов истолковывали эту особенность поэтики Пастернака как отказ от эгоцентрической точки зрения, надсубъективность и выражение принципа «относительности», то Ужаревич видит здесь проявление «анонимности», «маскировочности», проистекающих якобы «из глубинной тяги лирического субъекта к домашности и за
щищенности (“квартира”, “дом”, “комната” – важнейшие топосы пастернаковской поэтики). Отсюда своеобразное внутреннее противоречие пастернаковского лирического “я”, проявляющееся в сочетании темы подозрения (ср. мотивы подслушивания, опасения, подслеживания, страха, противостояния действительности) и, с другой стороны, темы интимного отношения к действительности» (397, с. 28). В более поздней работе, говоря о сокрытии у Пастернака авторского «я», Ужаревич именует его «камуфляжем» и ищет его объяснение в таких «пастернаковских чертах, как застенчивость, косноязычие, женственность, конфузливость» (398, с. 294). Но «самая глубокая причина скрытия “я” и замены ее неопределенным (в принципе бесконечным) множеством объектов окружающего мира может у Пастернака быть истолкована как способ избежания смерти, или – подругому – как поиск бессмертия» (398, с. 24). При этом ученый так интерпретирует пастернаковский путь к обретению бессмертия: «Установка на окутывание себя внележащими объектами (! – С.Б.) дает субъекту возможность скрыться и “защититься” от конечности и уязвимости собственного бытия. С другой стороны, окружающая среда – неисчерпаемый источник жизненной и творческой энергии. Судя по всему, здесь можно говорить о своеобразной экзистенциальной хитрости Пастернака. Эта хитрость состоит в том, что Пастернак, пользуясь предельным самоотрицанием и бесконечным превращением Другого в себя, тем самым создает защитительный и одновременно оснащающий слой между собой и Другим» (398, с. 294). Здесь поэту приписана глубоко чуждая ему экзистенциальная установка. Согласно ей, само собой разумеется, что за «другим» (у Пастернака это в пределе – женщина) можно спрятаться от смерти. Но для Пастернака это невозможно ни по моральным, ни по метафизическим и эстетическим причинам, ибо бессмертенто как раз «я», а «другой» – есть «имеющий умереть» (М.М. Бахтин), поэтому только его, а не себя, можно любить и жалеть, а ради него нужно «сойти на нет». И в других своих утверждениях исследователь подтягивает Пастернака к своему априорному представлению о природе лирики и об имеющем якобы место парадоксе лирического «я». Согласно его гипотезе, «кроме лирического “я” и действительности, которые целиком заполняют структурноявленный план лирического стихотворения, есть в стихотворении и сверхструктурная реальность. Ее можно обозначить как “художественную точку зрения” (Ю. Лотман) или как точку зрения текста (семантического целого)» (397, с. 31–32). Ужаревич называет эту инстанцию «лирическим СверхЯ», которое отчетливо в повествовательных жанрах, а в лирике, якобы, «структурно затуманено (незаметно) изза доминирующей роли лирического “я”». Примером такой точки зрения СверхЯ является для ученого финал «Душной ночи»: если в начале стихотворения семантическая перспектива шла от «я» к окружающим предметам, то в стихах: «Еще я с улицы за речью / Кустов и ставней не замечен», вдруг появляется перспектива от «сада» через «кусты» и «ставни» к “я” (397, с. 33). Почему, однако, перспектива от сада, или обратная перспектива (о ее значении нам еще предстоит говорить) является точкой зрения текста как некоего «СверхЯ», а не одной из точек зрения внутри самого произведения? Предпочтенное ученым понимание проблемы и употребляемое им понятие «СверхЯ» исходит из презумпции монологичности текста Пастернака (и лирического текста вообще). В соответствии с установкой такого рода Ужаревич принципиально понимает субъектную архитектонику лирического произведения не как отношение субъекта к субъекту, а как «субъектобъект отношения» (397, с. 29), с этого собственно и начинается его статья: «Мир лирического стихотворения в его семантическом аспекте можно понимать как
своеобразное отношение субъекта и объекта, т. е. Я и действительности (НеЯ)» (397, с. 23). Таким образом, исследователь получает на выходе лишь то, что постулировал вначале, а отнюдь не действительную картину субъектной архитектоники в поэзии Пастернака2. 3 Возможность более адекватного взгляда на предмет возникла после того, как была осознана феноменологическая составляющая эстетики Пастернака3. Для прояснения этого вопроса много дало осуществленное Анной Хан сопоставление текстов Г. Шпета с ранними работами поэта – его студенческой статьей «О предмете и методе психологии» (1911), тезисами «Символизм и бессмертие» (1913), «Черный бокал» (1916) и др. Открытые исследовательницей переклички действительно говорят о близости подходов к проблеме сознания и «я». Но вот что особенно замечательно: в иных случаях поэт как бы опережает философа, и некоторые формулировки Шпета выглядят как цитаты из более ранних работ Пастернака: «Чувство бессмертия сопровождает пережитое, когда в субъективности мы научаемся видеть не принадлежность личности, но свойство, принадлежащее качеству» (235, с. 255). Ср. позже у Шпета: «Если и есть какаято непосредственная данность “я”, то она – иного рода, чем та, которая констатируется субъективистами, признающими, что всякое сознание есть сознание, принадлежащее только “я”» (335, с. 37) (курсив наш. – С.Б.). Эти схождения могут объясняться прямым знакомством Пастернака с еще не успевшими попасть в печать высказываниями Шпеталектора, но, возможно, перед нами – артефакт самого по себе феноменологического подхода. Примерно в это же время М. Пруст, как показывает М.К. Мамардашвили, предлагает близкую формулировку: повествователь в «Поисках утраченного времени» «понял, что сознание, сцепленное с конструкцией “я”, “яйной” конструкцией – есть препятствие <…> и возникает проблема расцепить его. С чем? С самым дорогим нашим объектом в мире – со своим собственным “я” как субъектом этого сознания» (173, с. 347–348). Если психологи (Фрейд и Юнг) открыли «множественность» субъектов в человеке путем проникновения в его поди сверхсознание, то феноменологи сделали это, углубившись в структуру самого сознания. Уже ранний Пастернак исходит из феноменологической дефиниции собственно сознания, его содержания и интенционального акта «сознанности» как отношения между ними (218, с. 98), понимая субъективность как «категориальный признак качества» (235, с. 255). Качество, о котором здесь идет речь, – качество именно «содержания сознания, т. е. <…> качество сознаваемого и качество акта сознанности» (363, с. 38). Но раз субъективность – это качество содержания сознания, то мы должны отличать ее от «я». Традиционное же (дофеноменологическое) словоупотребление привело, по Пастернаку, к смешению и «опасной одноименности» этих двух разных феноменов, причем именно субъективность «заимствовала свое местоименное обозначение у субъекта чувствования и хотения, а не наоборот» (218, 100). И здесь вновь показательная параллель с Прустом, который порывает с навязываемым нам языком представлением «об одном, пребывающем во времени “я”», и делает «я» – «множественным или многократно расположенным» (173, с. 256). Развивая эти положения, современный философ говорит об употреблении понятия «я» в двух смыслах, и даже – о двух категориях «я». Первое – «безразмерное» или «неопределенное» «я», «апейрон» (Пастернак употребляет это слово в своих записях студенческих лет. – С.Б.) – «некоторая ну