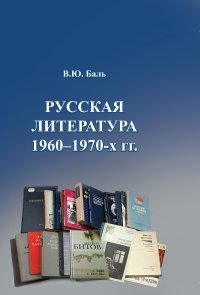Русская литература 1960-1970-х гг.
Покупка
Тематика:
История литературы
Издательство:
Томский государственный университет
Автор:
Баль Вера Юрьевна
Год издания: 2020
Кол-во страниц: 314
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-94621-926-6
Артикул: 777337.01.99
Учебное пособие-практикум раскрывает смысловое содержание художественных произведений, являющихся репрезентативными для осмысления русской литературы 1960-1970-х гг. Цель пособия - помочь студентам вдумчиво и критически перечитать художественные произведения рассматриваемого периода. В ходе предложенного алгоритма прочтения студент получит возможность не
только отработать навыки литературоведческого анализа, но и осмыслить художественное произведение в тесной смысловой связи с историческим и социокультурным контекстом его создания, публикации и бытования. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям: 45.03.01 «Филология», 42.03.03 «Издательское дело».
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В.Ю. Баль Русская литература 1960–1970-х гг. Учебное пособие-практикум Томск Издательство ТГУ 2020
Баль В.Ю. Русская литература 1960–1970-х гг.
2
УДК 82"19"(075.8)
ББК 83
Б21
Баль В.Ю.
Б21
Русская литература 1960–1970-х гг. :
учебное пособие-практикум. – Томск : Издательство ТГУ,
2020. – 314 с.
ISBN 978-5-94621-926-6
Учебное пособие-практикум раскрывает смысловое содержание художественных произведений, являющихся репрезентативными для
осмысления русской литературы 1960–1970-х гг.
Цель пособия – помочь студентам вдумчиво и критически перечитать художественные произведения рассматриваемого периода. В ходе
предложенного алгоритма прочтения студент получит возможность не
только отработать навыки литературоведческого анализа, но и осмыслить художественное произведение в тесной смысловой связи с историческим и социокультурным контекстом его создания, публикации и бытования. Предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям: 45.03.01 «Филология»,
42.03.03 «Издательское дело».
УДК 82"19"(075.8)
ББК 83
Рецензенты:
В.С. Киселев, доктор филологических наук
(Томский государственный университет);
Е.А. Полева, кандидат филологических наук
(Томский государственный педагогический университет)
© Баль В.Ю., 2020
ISBN 978-5-94621-926-6 © Томский государственный университет, 2020
Введение 3 Содержание Введение .................................................................................................................................... 4 «Молодой герой» в «молодой прозе» 1960-х гг.: лирико-психологические и исповедальные повести и рассказы А.Г. Битова: рассказ «Пенелопа» (1962) и повесть «Сад» (1967) ..................... 6 Повести «предварительных итогов» в творчестве Ю.В. Трифонова: «Обмен» (1969) и «Дом на набережной» (1976) ................................................... 23 Мораль аморального героя в пьесе А.В. Вампилова «Утиная охота» (1975) ......................................................................................................... 53 «Производственная драма» 70-х гг. : А.И. Гельман «Протокол одного заседания» (1975) ........................................................................ 72 Судьба крестьянской культуры в произведениях В.Г. Распутина: повесть «Последний срок» (1970) и «Прощание с Матерой» (1976) ........... 86 Человек и природа в повествовательном цикле В.П. Астафьева «Царь-рыба» (1976) ........................................................................................................... 119 Светлые и темные души в рассказах В.М. Шукшина: «Чудик» (1967), «Алеша Бесконвойный» (1971), «Сураз» (1976) ................................................. 141 Роман-эпопея В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба» (1961) как роман о жизни и судьбе людей в XX веке ........................................................................... 159 Проблема национального характера в рассказах А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962) и «Матренин двор» (1963) ......... 234 Путь к «бесстрашию» в романе А. И. Солженицына «В круге первом» (1958) ................................................................................................. 254 Лагерная проза на материале «Колымских рассказов» В.Т. Шаламова: антимир и сверхчеловек ............................................................. 291 Список использованной литературы и источников ....................................311
Баль В.Ю. Русская литература 1960–1970-х гг. 4 Введение Литературный процесс второй половины ХХ века – это необычайно сложный для изучения и понимания период. Причина сложности – насыщенность исторических, социальных и культурных событий, которые безусловно повлияли на развитие русской литературы второй половины ХХ века. Русская словесная культура этого периода, прежде всего, ее тематический диапазон, отразил кризисное мироощущение. Содержание кризиса определили переход от патриархального типа цивилизации к технократическому, расхождение практики реализации утопических социальных идей с гуманистическими ценностями, девальвация культурных ценностей, распад целостного сознания и формирование сознания фрагментарного и массового. В предлагаемом пособии внимание сосредоточено на периоде развития русской литературы, который хронологически относится к 60–70-м годам. На развитие литературы этого периода большое влияние оказали социально-исторические, общекультурные и эстетические процессы. Начало этого периода ознаменовано курсом на гуманизацию, либерализацию и десталинизацию. Это обстоятельство во многом определило как публикацию художественных произведений, которые не могли быть обнародованы в предыдущее десятилетие (А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», Ю. Трифонов «Дом на набережной»), так и попытку публикации «неудобных» произведений (В. Гроссман «Жизнь и судьба», А. Солженицын «В круге первом»). Через призму системы традиционных нравственных систем проверяются и осмысляются главные события русской истории ХХ века: революция, Гражданская война, коллективизация, репрессии, Великая Отечественная война (повести Ю. Трифонова, В. Гроссман «Жизнь и судьба», А. Солженицын «В круге первом», «Матренин двор», В. Шаламов «Колымские рассказы»). Мысль о разрушительном влиянии технократической и механистической цивилизации, которая идет вразрез с традиционной гуманистической системой ценностей, становится важной в творчестве крупнейших писателей реалистов второй половины XX века (В. Распутин «Прощание с Матерой», В. Астафьев «Царь-рыба»). Не остаются без внимания писателей этого периода причины нрав
Введение 5 ственного и социального кризиса общества, проблемы нравственного самоопределения и долга, идеи и нравственности (А. Вампилов «Утиная охота», повести Ю. Трифонова, «производственная драма», повести А. Битова, рассказы В. Шукшина). В целом, тематическое разнообразие литературы рассматриваемого периода отражает сложность проблем, которые она поставила. Проблем, связанных как с разными аспектами национальной жизни (национальный характер, национальное самосознание, трагедия нации), так и с экзистенциальными основами существования человека второй половины XX века (выбор между родовой и личностной системой ценностей, определение своего места в истории, культуре и вечности). Перечень предлагаемых художественных текстов не исчерпывает всего разнообразия литературного процесса рассматриваемого периода. Но в то же самое время – это те произведения, именно с которых следует начать изучение этого этапа развития русской литературы. Предлагаемое учебное пособие носит сугубо практический характер. Содержание пособия – это не хрестоматия, не монологическое высказывание о единственно возможной интерпретации художественного произведения. Цель пособия-практикума – предложить алгоритм прочтения художественного произведения с проблематизацией его важных содержательных моментов. Уровни поэтики, заложенные в предлагаемый сценарий прочтения, позволяют рассмотреть художественный текст как «бесконечный лабиринт сцеплений» (Ю.М. Лотман). Проблемные вопросы, мнения литературных критиков и литературоведов, сопровождающие фрагменты произведений, позволяют выявить всю палитру смысловых оттенков авторского замысла. В конце каждого раздела помещены задания для самостоятельной письменной работы, имеющие проблемный характер, которые позволят высказать самостоятельную точку зрения на один из аспектов изученного художественного произведения. Также в конце каждого раздела имеется список дополнительной литературы, дающий возможность для расширения кругозора по произведениям рассматриваемого периода.
Баль В.Ю. Русская литература 1960–1970-х гг.
6
«Молодой герой» в «молодой прозе» 1960-х гг.:
лирико-психологические и исповедальные
повести и рассказы А.Г. Битова: рассказ «Пенелопа»
(1962) и повесть «Сад» (1967)
Ключевые термины и понятия: рассказ, повесть, исповедальность,
психологизм, поток сознания, молодой герой.
Первые публикации. Повесть «Пенелопа» написана 1962 году и
впервые опубликована в 1965 году. Позже повесть вошла в авторский цикл «Аптекарский остров», который вышел отдельным изданием в 1968 году. Повесть «Сад» написана в 1967 году и опубликована в сборнике повестей «Образ жизни» в 1972 году. В дальнейшем повесть «Сад» вошла в роман-пунктир «Улетающий Монахов»
(1990).
Повесть «Сад»
ТЕМА
Как бы вы сформулировали тему повести А. Битова «Пенелопа»?
Алексей так обрадовался отсутствию холода в доме, что ему не
надо сковываться и сжиматься, что вдруг снова почувствовал себя
младше на полгода, то есть очень младше: младше на целую жизнь,
младше на Асю. Понял, что очень любит маму и дом, обнял маму,
расцеловал; мама как-то обмякла в его руках; он внезапно почувствовал, какая она маленькая, худенькая, и еще что-то одно поразило его в этом приливе нежности. Он понял вдруг, что вот уже пол
года он не подходил так к маме, не обнимал ее и не целовал, это
как-то отпало, исчезло – и это тоже была Ася. Он чувствовал
неловкость в руках, когда сейчас вот обнимал маму. И еще его
удивило, как же он не заметил этого раньше, ведь до Аси у них с
мамой была такая любовь! И ведь, наверно, очень резко прервались вот эти нежности с мамой, так что мама не могла не заметить…1 Но он вот ни разу не почувствовал, что она это заметила. Он еще подумал, что все эти полгода ничего нет в его памяти из
жизни дома, все – Ася, и это, наверно, жестоко и несправедливо с
1 Здесь и далее полужирный курсив мой. – В.Б.
«Молодой герой» в «молодой прозе» 1960-х гг.
7
его стороны. Ему было и неловко, даже, может быть, стыдно перед
мамой, но во всем этом приливе чувств прежде всего его не покидало чувство неловкости в руках, обнимавших маму, они просто были
деревянные какие-то, в них не было тепла, объятие казалось потому
неправдой, чем-то стыдным и даже подлым. И еще неловче было
оттого, что у мамы, он чувствовал это, такого не было. У мамы сейчас все было по-старому, как прежде, и, наверное, даже сильнее, как
у соскучившегося человека. Все было так, и поэтому Алексей первый отстранился от мамы и тогда увидел такие счастливые и грустные глаза, что хоть плачь. Он вдруг ощутил такую беспомощность,
что поспешил уйти к себе.
Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не станут чужими, многое образуется и вернется, но… Ему стало
очень и очень грустно, но это не было неприятно. Он действительно внезапно почувствовал, что детство его ушло. И еще он
думал о том, как странно мало вмещает в себя человек, впрочем,
не так общо он думал, а как мало вмещает в себя ОН, и винил
себя за это. Вот приходит одно – и уже не хватает на другое.
Жестокость такого открытия тем не менее его не поразила.
Словно ощутил он в этом неизбежный порядок вещей2.
CЮЖЕТ И ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ
Какие сюжетные коллизии определяют развитие сюжета в
повести? В чем сложность перехода из мира детства во
взрослую жизнь? В чем причина малодушной зависимости
героя от чужих оценок? Это черта взросления или утраты
свободы, которая присуща взрослому человеку?
Согласны ли с наблюдением Ирины Роднянской:
Драма утраты детства начинается для битовского героя
там, где в его самодостаточный счастливый сон вторгаются социальные определители и ограничители из мира межчеловеческих связей и обстоятельств3.
2 Здесь и далее тексты произведений А. Битова цитируются по изданию:
Битов А. Империя в четырех измерениях: Империя I. Аптекарский остров :
[роман, повесть, рассказы]. СПб.: Амфора, 2008. 555 с.
3 Роднянская И.Б. Этюд о начале (Андрей Битов) // Движение литературы.
М.: Знак: Языки славянских культур, 2006. Т. 1. С. 591.
Баль В.Ю. Русская литература 1960–1970-х гг. 8 Это было неизвестно, когда она позвонит. Но позвонить она собиралась. Обещала. Она должна была позвонить, и Алексей все шатался по квартире: словно бы листал газеты в прихожей и словно бы шел за ножом в кухню по коридору. Когда звонил телефон, Алексей подскакивал и снимал трубку, но звонила не она, не Ася. Дядьку, тетку, бабку – кого только не зовут к телефону! – но все не его. Мама тоже ходит по коридору и не разговаривает: что-то затаила. Хуже нет, когда у нее вот такое собранное лицо. Когда смотрит мимо, словно его, сына ее Алексея, и нет вовсе. Алексей устал гадать и обращать на это внимание: в последнее время всегда именно такое обращается к нему мамино лицо. И конечно же, подозрительно ей, что толчется он тут у телефона. Тогда, если мама появляется в коридоре, Алексей подходит, снимает трубку – узнает время. В следующий раз набирает неопределенный номер, причем одну цифру недобирает. «Витю можно?» – говорит. Витя Кошеницын – хороший, маме нравилась бы такая дружба: сын сослуживицы – все на виду – и учится хорошо. Алексей выжидает некоторое время, какое нужно, чтобы позвать человека к телефону, а потом начинает говорить о каком-то соленоиде, для смеха путая его с синусоидой, и городит такое, что ему даже легче становится. Иногда замолчит, словно слушая того, на другом конце, или так себе, хмыкнет неопределенно между молчаниями, или междометие вставит. А сам за это время нечто придумает да и скажет: «Конечно, потенциальная сила константы блока при пересечении магнитоидных искривлений системы равна гидравлической энергии питания электрода, альфа-омега-пси. Именно этого я не понимал», – повесит трубку. Маме нравились бы такие разговоры. Но вовсе этого на самом деле не было. Одно лишь представление, мечта… <…> Все было кончено. И он действительно проснулся. И действительно, сегодня надо переписать контрольную – последний срок. Он сел на кровати, сразу бодрый, неспавший, чуть заметно для себя дрожащий. Действительно, раз он так уж не готовился, надо успеть хотя бы написать «шпоры». Неосознанная и страшноватая ученическая боязнь и суета возникли в нем и одновременно особая отличниковская старательность, хотя вот уж отличником он никогда не был… Так это все мелькало – мечталось, как он чудом, но все-таки подготовился и напишет на «пять», будет допущен к экзаменам и их тоже все сдаст на «пять» – подумать только… Все он делал очень споро, но в то же время как-то слишком тщательно и подробно: и чистил зубы, и мыл шею, и грел завтрак, и пил чай. Там, где-то на донышке,
«Молодой герой» в «молодой прозе» 1960-х гг. 9 где у нас мотивировки и оправдания, это звучало так: излишняя поспешность только вредит делу, спеши медленно, главное – экономия движений и организация и так далее – та же отличниковская игра. Возвращался в свою комнату, садился за стол, доставал кон спект. Конспект этот он вымолил у Кошеницына – тот, конечно, все уже сдал раньше всех. Вымолил на один вечер, а держит уже третий день. А сегодня уж точно придется отдать. Раскрыл конспект, поругивая себя за потерянные три дня: вот когда бы он действительно все знал! – сладкое и лживое ощущение отличника снова забиралось в него, небольшое такое тщеславие. Аккуратно вырывал он чистый лист из чистой тетради – на таком хотелось писать чистым толковым почерком и отчеркивать карандашом поля (можно и простым), и нумеровать страницы, и составлять содержание, тетрадь окончив. Такая она толстая и красивая, и вся исписана – наслаждение и удовлетворение, труд и плод того же отличника… Тетради такой у него, конечно, не было, но чувство было, и поэтому он выстриг чрезвычайно аккуратные полоски для шпаргалок, много больше, чем успел бы написать и чем даже надо было. За стеной скрипела кровать – садилась мама, шаркала шлепан цами к его двери, мама шла проверить, что за подозрительная тишина у сына, уж не спит ли… Сын успевал спрятать полоски и сосредоточиться над конспектом. Дверь отворялась, мама видела склоненную голову сына (сын не поворачивался к ней – это был пережим, но его не замечали ни он, ни она), некоторое удовлетворение появлялось на усталом мамином лице. И мама ушла. Все сразу разжалось в Алексее. (Больше ему не полагалось про верки.) Тело вдруг затеплилось, зацепенело до кончиков пальцев. Он взглянул в окно… Там было еще так безнадежно, по-зимнему темно: только болтается фонарь, высвечивая взад-вперед белую крышу заводского склада, и часовой топчется у гриба. И этой картине одиннадцать уже лет – и вот уже картину эту видит он давними, совсем детскими глазами, от этого появляется ощущение не совсем еще забытого детского кошмара, который и до сих пор ему непонятен. Что-то странное начинает твориться с руками – они растут, разбухают, чужие, не свои, и что-то ужасное и непоправимое, неизвестно что произойдет сейчас с тобой. А фон и место действия кошмара – зимнее утро, школа, ранний туда приход, раздевалка, желтый гнойный свет и от этого грязновато-голубые стены, и тот же свет
Баль В.Ю. Русская литература 1960–1970-х гг. 10 коридоров и классов, бесшумное всех движение, и учителя, как огромные мыши этих коридоров…<…> И всегда, когда Алексей нажимал звонок, все напрягалось в нем. Потому что тут – пауза, шорох, шаги за дверью – все могло произойти. Могло не оказаться Аси… потом гадай, куда она делась. Сиди на удобной для того скамейке. Если откроет Ася, все хорошо. Но может открыть Нина, или Сергей Владимирович, или, если их нет, а ты все-таки позвонил еще раз, – соседи, самое худшее. У них такие лица, если они ему открывают, он чувствует себя виноватым, неведомо, правда, в чем, тем более, впрочем, виноватым и зависимым. И если откроет не Ася, то опять же: либо она дома, либо ее нет. И тоже могут открыть по-разному. Особенно Сергей Владимирович. Не просто открыть, тут множество оттенков: какое будет при этом лицо, промолчат или что скажут, и что скажут, пригласят или оставят на лестнице… Какие внутренние противоречия героя обнажает любовная коллизия? Как можно охарактеризовать поток его внутренних размышлений? Свойственен ли герою самоанализ? Как эта художественная форма характеристики героя соотносится с темой повести? На Кировском мосту его продуло. И он перестал улыбаться. Ругал себя, что давно был бы дома, а вот не дома. И теперь уже автобусов не будет. И трамваев тоже. И тогда мама, платье, муж Аси, сессия – все это кружило над ним, мутило душу, и Ася уходила. Вдруг пробежала непонятная одна собака, вдвое длинней обычной, от фонаря к фонарю, – тень собаки; ноги, тени ног – много; деловито перебежала от фонаря к фонарю, исчезла. Алексей рассмеялся. И тогда подумал, что как же он так отвлекается и не чувствует уже так остро то, что должен и обязан чувствовать. Рад отвлечься на любую собаку. И почему он вообще так неостро и лениво чувствует, даже когда ему кажется, что остро. И думает тоже словно бы нехотя. Никакой в нем страстности… И тогда он снова подумал о том, что полгода назад, когда у них началось с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал часами на лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно – и тогда конец. Только еще одно доказа