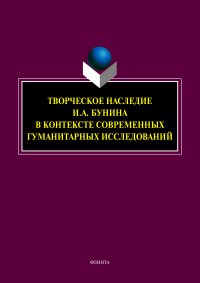Творческое наследие И.А. Бунина в контексте современных гуманитарных исследований
Покупка
Тематика:
Литературная критика
Издательство:
ФЛИНТА
Науч. ред.:
Борисова Наталья Валерьевна
Отв. ред.:
Трубицина Наталья Алексеевна
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 492
Дополнительно
Вид издания:
Сборник
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-9765-3955-6
Артикул: 753299.02.99
Сборник научных трудов «Творческое наследие И.А. Бунина в контексте современных гуманитарных исследований» посвящен изучению художественного дарования первого русского Нобелевского лауреата по литературе и включает гуманитарные исследования по филологии, литературоведению, языкознанию, лингвистике, педагогике, философии, фольклору, этнографии. Для студентов, учителей, преподавателей, ученых-филологов, а также всех, кто интересуется творчеством И.А. Бунина.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Магистратура
- 44.04.01: Педагогическое образование
- 45.04.01: Филология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА» ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И.А. БУНИНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник научных трудов 2-е издание, стереотипное Москва Издательство «ФЛИНТА» 2019
УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=411.2)5-8Бунин И. А.
Т28
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
Н.А. Трубицина, кандидат филологических наук, доцент
(ответственный редактор);
Н.В. Борисова, доктор филологических наук, профессор
(научный редактор);
С.В. Логвиненко, кандидат филологических наук
Т28 Творческое наследие И.А. Бунина в контексте современных
гуманитарных исследований [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. /
отв. ред. Н.А. Трубицина ; науч. ред. Н.В. Борисова. – 2-е изд., стер.
– М. : ФЛИНТА, 2019. – 492 с. : ил.
ISBN 978-5-9765-3955-6
Сборник научных трудов «Творческое наследие И.А. Бунина в
контексте современных гуманитарных исследований» посвящен изучению
художественного дарования первого русского Нобелевского лауреата
по литературе и включает гуманитарные исследования по филологии,
лите-ратуроведению, языкознанию, лингвистике, педагогике, философии,
фольклору, этнографии.
Для студентов, учителей, преподавателей, ученых-филологов, а
также всех, кто интересуется творчеством И.А. Бунина.
УДК 821.161.1(082)
ББК 83.3(2=411.2)5-8Бунин И. А.
ISBN 978-5-9765-3955-6
© Коллектив авторов, 2019
© Издательство «ФЛИНТА», 2019
ЧАСТЬ I. БУНИНСКАЯ РОССИЯ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ Л.П. Грот Консалтингово-образовательное предприятие «НОРРКОН АБ» Швеция, Лулео ИВАН БУНИН И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В статье поднимается вопрос об особом свойстве, присущем твор честву И.А. Бунина – исторической памяти, сохранившей подробную картину жизни России конца XIX – начала XX вв. В статье показано, что произведения писателя – великолепный исторический источник, который особенно актуален в наши дни, когда против России ведется информационная война и преобладает негативизм в изображении исторического прошлого дореволюционной России. Этот негативизм, согласно исследованиям автора, восходит к деструктивному наследию российской либеральной и левой мысли XIX в., оказавшейся под влиянием давней западноевропейской традиции ведения информационных войн с использованием исторического материала. Ключевые слова: Бунин, историческая память, русская история, ли берализм, информационная война, русская эмиграция. В произведениях И.А. Бунина поражает его удивительная память и высокоразвитая наблюдательность, будь это описание пейзажа, быта или внешности его героев. Исследователи творчества писателя называли это свойство образной памятью. Для читателя-историка произведения И.А. Бунина имеют свое осо бое значение, поскольку они – великолепный исторический источник, в котором запечатлелась жизнь России конца XIX – начала XX вв. Поэтому присущая И.А. Бунину-писателю острая наблюдательность для историка выступает как особая историческая память. «...Вспоминается мне ранняя погожая осень... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его вовсе нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, - непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге... Осень пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились ”богатством”... Старики и старухи жили в Выселках очень
подолгу... Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами... Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, - очень недавно, - имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию... А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба... Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!..» [2, 327-341]. К.Г. Паустовский сравнил сокровищницу памяти И.А. Бунина с ма гическим кристаллом, в котором собралась вся жизнь русского общества: «...вереница русских людей – крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин, – многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой», в котором красной нитью проходит «выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране» [10, 538-540]. Однако славословие России (выражение К.Г. Паустовского), любовное отношение к жизни русской провинции проявились в творчестве уже зрелого Бунина в эмиграции. В повестях и рассказах 1909-1916 гг. Бунин отдал дань либеральной моде на образ «многострадальной русской деревни», который должен был быть лишен всего, что могло бы вызвать чувство любви к России. Стоит вспомнить, что первые десятилетия жизни российского обще ства XX в. были окрашены активизацией деятельности либеральной и левой оппозиции, ставившей своей задачей свержение существовавшего режима. Представители российской либеральной и левой мысли XIX в. свято уверовали в то, что весь свет идей – только с Запада и что надо встать на тот путь развития, которым идет Запад, включая и революционные «преобразования», и тогда в России начнется «естественный прогресс» (выражение П. Чаадаева). На этом «идейном» фоне стала развиваться литература с «направлением» и публицистика, красившие и историю России, и ее настоящее беспросветно черным цветом. В российских образованных кругах того времени, даже весьма далеких от политического радикализма, преобладало убеждение, что порядочные люди в России должны обязательно числиться среди «сочувствующих и негодующих». Такие произведения Бунина как «Деревня» (1909-1910) и «Суходол» (1911) являют картины «многострадальной» деревни в духе взгляда на российскую жизнь либеральных кругов, согласно которым жизнь российского общества, включая и жизнь русской провинции должна изображаться, что называется, без «идеализации», т.е. без малейшей позитивной черты в ее описании. Дурновка в «Деревне» – собирательный образ, якобы воплощавший черты не только русской деревни начала XX в., но и всей России, как это виделось российскому либералу: «…Россия? Да она вся – деревня...».
Образ этот – ложь, и в «Жизни Арсеньева», созданной в 1927-1930 гг., Бунин пишет об этом прямо и ядовито, зная о «революционной среде» не понаслышке, поскольку знал ее через брата Юлия: «Замечательней всего было то, что члены ее ... жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое, особое и непоколебимое: свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность,... свое собственное отношение к России: отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно ”бороться”... все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы... все спасение – в перевороте, в конституции или республике... всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение... клеймят ”ренегатом” всякого, кто хоть маломальски усомнился в чем-нибудь, ими узаконенном... на вечеринках поют ”Вихри враждебные веют над нами”, – а я чувствую такую ложь этих ”вихрей”, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать..» [3, 419-421]. Пережив трагедию России 1917 г., Бунин обнаружил необычайную способность вместить в своих произведениях как всю полноту жизни России его времени, так и цепко сохранить каждое звено в цепи, протянувшейся «от богатой мужицкой жизни» в «Антоновских яблоках» (1900) к «Кануну» (1930), т.е. кануну трагедии 1917 г. «Канун» – это литературный водораздел двух эпох. В этом небольшом рассказе-зарисовке ещё присутствуют такие выражения как «благополучие», «строгое достоинство», но над ними уже нависает фраза: «Шла, однако, уже осень шестнадцатого года» [4, 262]. Зловещая тяжесть этой фразы понятна современному читателю, по скольку «Канун» подводил не к началу, а к «Концу» (1921) жизни бунинской России: «На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники... Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем... В городе не было ни одного огня, порт был пуст, – «Патрас» уходил последним... да, так вот оно что – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да. И всему, всей моей прежней жизни конец... Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?» [5, 16-17]. Но именно осознание трагичности происшедшего в русской истории окончательно утвердило в произведениях И.А. Бунина тот особый дух, который Паустовский определил как славословие России. Можно выделить несколько ключевых слов в произведениях И.А. Бунина периода эмиграции, которые выступают несущими опорами для воссоздания образа того великого дома, каким увиделась И.А. Бунину Россия из эмиграции.
Первым из таких ключевых слов в изображении России стало слово гордость: «Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли Ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое: то, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалась в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознанья ее... Потом я читал Никитина: ”Под большим шатром голубых небес, вижу даль степей расстилается...” ...И когда я доходил до гордого и радостного конца..: ”Это ты, моя Русь державная, моя родина православная!” – Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. – Да, вот это стихи! – говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. – Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат, мещанин, земляк наш!» [3, 317-319]. В качестве второго ключевого слова я бы выделила слово богатство или благополучие: «Был сентябрь, вечер. Я брожу по городу... Город ломится от своего богатства и многолюдства: он и так богат, круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем, теперь же и того богаче – с утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи, с утра до вечера идет по всему городу ссыпка хлеба, базары и площади завалены целыми горами всяких плодов земных» [3, 322]. Или еще отрывок из «Позднего часа» (1938): «Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет божье благоволение…» [7, 32]. И третьим словом или скорее, выражением для характеристики доре волюционной России у Бунина следует назвать память о прошлом: «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою» [6, 205]. Бунин торопился сберечь, запечатлеть эту память о России для поко лений будущих соотечественников, поскольку видел, что у власти в стране
утвердились как раз те, кто отрицал прошлое России и кто за благо почитал очернение ее истории, особенно это касалось истории последних десятилетий XIX – начала XX вв. На его глазах утверждалась версия выдуманной истории России или то, что сейчас называют историко-политическими мифами о страдавшем русском крестьянстве, всегда жившем в голоде и прозябавшем в бедности и безземелье, о России как отсталой в экономическом и социальном отношении стране и пр. Причем этот черный пиар России уже при жизни Бунина принимал тотальный характер, поскольку его развитие поддерживалось не только советской историографией, что было естественно, но и некоторыми влиятельными представителями российской эмиграции, а через них стало впитываться западной советологией – специальной отраслью общественных наук, в задачу которой входили исследования политики, экономики, социальной жизни СССР, но спецификой советологии было то, что она занималась изучением врага, и это накладывало отпечаток на её продукцию. Со временем в рамках советологии стали заниматься историей, культурой, религией, и в русле этих исследований СССР стал для удобства полностью отождествляться с Россией, соответственно, русская история и русские культурные традиции начали препарироваться таким образом, чтобы доказать, что все проблемы СССР идут изначально от «неправильной» русской истории, от «неправильной» православной религии. Советология расцвела в 60-е – 70-е годы, но складываться начала уже в 30-е годы (Алан Безансон во Франции). Советология постепенно вытеснила обычные исследования по России. Негативизм стал несущей опорой в изображении России, а набор стереотипов начал кочевать из публикации в публикацию: российская политика тысячу лет была под пятой самодержавия и не содержит ни грана демократических традиций, Россия всегда была крепостью реакции, народ всегда был задавлен и угнетён, иными словами – совершенно невозможная, «несчастливая» история. Все эти стереотипы легко узнаваемы, поскольку используются в со временной информационной войне против России того типа, когда в качестве оружия применяется искаженное преломление русской истории. В русле информационной войны используются особые информационные технологии, рассчитанные на обработку общественного мнения как в собственной стране, так и за ее пределами. Поэтому полнокровная картина бунинской России, сбереженная нам его исторической памятью, приобретает особую актуальность в наши дни. Тема создания историко-политических мифов для обслуживания прагматических политических потребностей перекликается с областью моих исследований – феноменом выдуманных историй в западноевропейской историографии, который сложился в западноевропейской общественной мысли в периоды перелома, известных как эпохи Возрождения и Просвещения. Тогда в возрожденческой Италии итальянскими гуманистами была понята важность того, что я назвала концепцией «светлого прошлого», т.е. создания исторических работ, в которых бы высвечивалось все по
зитивное в прошлом народа, и использования их для развития консолидирующих общество информационных технологий, для воспитания здоровой национальной идентичности на образах своего «светлого прошлого». Эта концепция «светлого прошлого» распространилась постепенно во всех западноевропейских странах. Там же, где собственного «великого прошлого» не хватало (например, в скандинавских странах), в ход шли придуманные картины «древнего величия». Как бы то ни было, Запад в период с XV по XVIII вв. вырос и укрепил национальное самосознание на традиции возвеличивать свою историю, но развил также практику поливать грязью истории соседних стран, что стало ядром информационных войн вплоть до наших дней и что оказалось изложницей того негативизма, которым прониклись представители оппозиционной российской общественной мысли в XIX в. [8, 103-176]. Выше было упомянуто, что в российской общественной мысли отри цание позитивного начала в русской истории получило развитие с начала XIX в., у истоков этого направления можно поставить П.Я. Чаадаева и его первое философическое письмо: «По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов... До нас же, замкнутых в нашей схизме, ничего из происходившего в Европе не доходило... Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не созидалось...», а перед этими фразами у Чаадаева шло полное отрицание русской истории вообще: «Мы же, явившись на свет, как незаконнорожденные дети, лишенные наследства... Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет...». И далее поясняет, отчего так произошло: за учением обратились к растленной Византии, соответственно, если бы обратились в Рим, т.е. приняли бы католичество, то и жили бы счастливо. Картина русской истории у Чаадаева совершенно умозрительна и лишена живой историчности. Идеи, зародившиеся у Чаадаева, деструктивные в своей основе, дали тучные всходы в либеральной и левой мысли России XIX в. [11, 81-91]. Достоевский так писал об этих представителях российской обще ственной мысли: «…русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все... Эту ненависть к России, еще не так давно, иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять; но теперь уже стали откровеннее и даже слова ”любовь к отечеству” стали стыдиться..» [9, 336].
Аналогичный портрет «революционной среды» запечатлел и И.А. Бунин в приведенном выше отрывке из «Жизни Арсеньева». Кому противостоял писатель, показывая светлое прошлое России, ясно и подробно зафиксированное его исторической памятью? Среди представителей российского либерального и левого направле ния были крупные мыслители, но если исходный момент в рассуждениях неверен, деструктивен, то неверной будет и вся, явившаяся из них концепция, причем сила порочности концепции будет тем сильнее, чем мощнее был ум, ее породивший. Деструктивное наследие чаадаевских идей, препарировавших рус скую историю исключительно с позиций негативизма, проникло в творчество такого крупного мыслителя, как Н. Бердяев, и сопровождало его историософию до конца его дней. Работа «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX века» была издана в 1946 г., за два года до смерти Бердяева. Вот небольшая выдержка из нее: «Развитие России было катастро фическим... История русского народа одна из самых мучительных историй: борьба с татарскими нашествиями и татарским игом, всегдашняя гипертрофия государства, тоталитарный режим Московского царства, смутная эпоха, раскол, насильственный характер петровской реформы, крепостное право, которое было самой страшной язвой русской жизни, гонения на интеллигенцию, казнь декабристов, жуткий режим прусского юнкера Николая I, безграмотность народной массы, которую держали в тьме из страха...» и в том же духе на многих страницах [1, 206-208]. Это историософия ковровых бомбардировок, после чего от русской истории просто ничего не остается. Но она неисторична, мертва, поскольку пронизана безжизненным негативизмом. Как и Чаадаев, для объяснения такой «мучительной» русской истории Бердяев также обращается к мысли о неправильно понятом христианстве: «Христианское призвание русского народа было искажено, - пишет он в «Русской идее». В подтверждение этой мысли он дает схематичные, упрощенные образы Нила Сорского как представителя мистического понимания христианства и Иосифа Волоцкого, у которого православие как христианство жестокое, враждебное всякой свободе, ставшее православием Московской Руси, а затем православием императорским [1, 209]. Аналоги этих идей можно встретить в работах С. Франка, Г. Федотова, П. Милюкова. Итак, Чаадаев «породил» негативизм российского либерализма относительно русской истории, представители российской либеральной и левой мысли принесли эти идеи в эмиграцию и они стали питательной средой западной советологии. Но откуда появился негативизм Чаадаева? Где тот источник, с деструктивным влиянием которого вынуждены были бороться такие представители русской эмиграции как И.А. Бунин? Следует обратить внимание на то, что у Чаадаева негативизм отно сительно русской истории идет рука об руку с противопоставлением рус
ской истории некоего опыта других народов или даже опыта рода человеческого. Однако «род человеческий» у Чаадаева очень конкретен; это народы Европы, разделенные на «отрасли латинскую и тевтонскую», именно у них развились «идеи долга, справедливости, права, порядка»... «Вот она, атмосфера Запада, - восклицает Чаадаев, - это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейца. А что вы взамен этого поставите у нас?» - завершает свою мысль Чаадаев [11, 84-85]. Вот квинтэссенция философии Чаадаева, которая, собственно, хорошо узнаваема и сейчас: весь свет идей – с Запада, в России этому свету противопоставить нечего. Сегодня еще добавляют: а тот, кто эту веру не разделяет, тот квасной патриот и противник прогресса. Подобные взгляды, проявившись в начале XIX в., стали укореняться в России с конца XVIII в., по мере впитывания просветительских и других западноевропейских идей. На их основе и сложились впоследствии либеральные и прогрессивно демократические или просто левые круги российского общества, а вместе с этим стало происходить невероятное: в российском обществе пошла нарастать волна уничижительного отношения к русской истории, которая и проявилось прежде всего в либеральных и левых кругах. Для объяснения природы этого невероятного явления я хотела бы опять вернуться к возрожденческой Италии и повторить, что в лоне такого прославленного идейного течения как итальянский гуманизм XIV-XV вв. сложилась и традиция, породившая то, что мы сегодня называем информационные войны. Сложилась она как своеобразная оборотная сторона гуманизма, поскольку одновременно с прославлением собственного исторического прошлого – для итальянцев это и было возрождением античности – родилась и традиция чернить историческое прошлое соседей. Для итальянских гуманистов этими соседями было население Германии и скандинавских стран, историческое прошлое которых стали обругивать, как историю ужасных готов, разрушивших великий Рим. В среде немецких гуманистов, осознавших себя потомками готов, и ощущавших свое родство с ними скандинавских писателей, началась компания по написанию феерических исторических трудов о великих готах, вливших свежую кровь в дряхлеющий Рим. С XVII в. к традиции возвеличивать собственное историческое прошлое для укрепления национального самосознания или идентичности подключились англичане, а чуть позднее – французы. Таким образом, история в период становления западноевропейских национальных государств, помимо объекта научного исследования, сделалась основой для политических мифов и своего рода информационных технологий, использовавшихся государством для объединения общества вокруг национальной идеи, ядром которой становилось позитивное изображение истории своего народа, подлинной или выдуманной (например, для скандинавских стран). Следовательно, в период с XVI по XVIII вв., как уже отмечалось выше, на Западе выросло и укрепилось национальное самосознание именно на традиции возвеличивать свою историю, а параллельно развилась