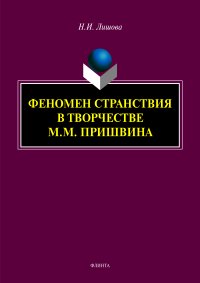Феномен странствия в творчестве М.М. Пришвина
Покупка
Тематика:
Литературная критика
Издательство:
ФЛИНТА
Автор:
Лишова Наталья Ивановна
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 152
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-9765-3968-6
Артикул: 723160.02.99
Монография является первым основательным исследованием, в котором представлено системно-целостное исследование мотива пути в его семанти-кофункциональном формате и в соотнесенности с авторским мировосприятием. Исследуемый мотив позиционируется в качестве концептуального конструкта, актуализированного на всех уровнях художественной системы.
Книга адресована филологам, философам, культурологам и может быть использована при подготовке вузовских лекционных курсов по истории литературы первой половины XX века, спецкурсов и спецсеминаров по творчеству М.М. Пришвина.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА» Н.И. Лишова ФЕНОМЕН СТРАНСТВИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ М.М. ПРИШВИНА Монография 2-е издание, стереотипное Москва Издательство «ФЛИНТА» 2019
УДК 821.161.1’06
ББК 83.3(2=411.2)6
Л67
Р е ц е н з е н т ы:
канд. филол. наук, доцент Липецкого государственного педагогического
университета О.А. Ковыршина;
канд. филол. наук, доцент Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина Ю.Н. Кутафина
Л67
Лишова Н.И.
Феномен странствия в творчестве М.М. Пришвина [Электронный
ресурс] : монография / Н.И. Лишова. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА,
2019. – 152 c.
ISBN 978-5-9765-3968-6
Монография является первым основательным исследованием, в котором
представлено системно-целостное исследование мотива пути в его семантикофункциональном формате и в соотнесенности с авторским мировосприятием. Исследуемый мотив позиционируется в качестве концептуального
конструкта, актуализированного на всех уровнях художественной системы.
Книга адресована филологам, философам, культурологам и может быть
использована при подготовке вузовских лекционных курсов по истории
литературы первой половины ХХ века, спецкурсов и спецсеминаров по
творчеству М.М. Пришвина.
УДК 821.161.1’06
ББК 83.3(2=411.2)6
ISBN 978-5-9765-3968-6
© Лишова Н.И., 2019
ВВЕДЕНИЕ
Современное пришвиноведение обнаружило немало перспек
тивных подходов к изучению творческого наследия писателя. Исследование феномена М.М.Пришвина находится в фокусе научных интересов не только литературоведов, но и философов, этнографов,
лингвистов, культурологов, что объясняется особенностями творческого пути писателя, в котором отразилась трагическая эпоха в истории России, еѐ культуры и цивилизации. Уже ранние произведения
Пришвина «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком»
свидетельствовали об особом «синтетическом» таланте автора, о его
внимании к фольклорно-этнографическому дискурсу, мифологосказочным основам народного творчества, осмыслению национального самосознания. Дореволюционная проза Пришвина получила немало позитивных оценок критиков, прозаиков, поэтов и публицистов,
среди которых – А.Блок, Д.Мережковский, А.Ремизов, З.Гиппиус,
Р.Иванов-Разумник и др. Уже тогда отмечалось великолепное знание
природы, художественное своеобразие, «притяжение» к эстетике модернизма, в частности, символизма. Это последнее качество пришвинской поэтики нередко подвергалось критике, особенно в среде
писателей
реалистического
направления.
Так,
в
отзыве
В.Г.Короленко о повести «У стен града невидимого» констатируется
«удивительное отсутствие простоты и ясности» [173, 11]. Известны
оценки З.Н. Гиппиус, которая писала о «глазном таланте» Пришвина,
назвав его «легконогим и ясным странником», обнаружив при этом
проницательность в определении главного, на наш взгляд, вектора
его художественных интенций – мотива странствий. З.Гиппиус, высоко оценивая художественное дарование Пришвина и одновременно
критикуя его за отсутствие внимания к социально-политическим проблемам, отметила особенность пришвинской оптики («глазной талант») – видеть мир, где «есть воздух и краски, есть художественная
сцепка видимого» [93, 166].
Известный критик Р.В. Иванов-Разумник обнаружил в Пришви
не «чуткого и тонкого художника», которого в большей степени интересует «общее, а не частное». Назвав Пришвина поэтом космического чувства, он подчеркнул, что писателя привлекает «вся стихия
народной жизни, стихия природы» [82, 48].
В советское время литературная репутация Пришвина не была
однозначной. Для многих он оставался «детским писателем», «пев
цом природы», автором охотничьих рассказов. Его часто критиковали
за аполитизм, «несвоевременность», «несовременность» (А.Зонин,
А.Ефремин, М.Григорьев и др.), отмечая позицию писателя как враждебную строительству социализма. Были и откровенные нападки
(А.Кипренский, А.Тарасенков, Н.Слепцов, С.Мстиславский и др.), в
центре которых – политические обвинения в нежелании проводить в
искусстве слова «политическую линию большевизма». Известна
оценка Л.Троцкого, назвавшего его повесть «Мирская чаша» «сплошь
контрреволюционной».
Однако было немало и позитивных оценок, и даже восторженных откликов. Пришвина всегда поддерживал М.Горький, считая его
«оригинальнейшим русским художником». Высоко оценивали художественный мир Пришвина такие критики и писатели, как
М.Шолохов,
К.Федин,
Н.Замошкин,
Н.Смирнов,
Ю.Соболев,
Е.Дубровский. В частности, Шолохов в своем отклике на повесть
«Корень жизни», впоследствии получившей название «Жень-шень»,
признался: «Я недавно прочитал, и до нынешнего дня на сердце тепло. Хорошему слову радуешься ведь, как хорошему человеку» [188,
264].
В последние два десятилетия научный интерес обращен к дневниковому наследию писателя. Дневники Пришвина – это не только
«творческая лаборатория», где немало «заготовок», фрагментов, черновиков произведений, без которых невозможно понять тайну писателя. В дневниках представлена не просто российская история первой
половины ХХ века, но то, что можно назвать исторической повседневностью в событиях, лицах, фактах, политических подробностях.
Объект нашего научного интереса – мотив странствий – мы оп
ределяем как мотив-инвариант, который репрезентативен для реализации важнейшей смысловой константы в творчестве Пришвина –
«странствия-поиска» - и способствует выражению онтологической
сути творческих интенций писателя. Мотив странствий относится к
категории вечных мотивов, поэтому он универсален и символичен по
своей природе. Актуализированный в произведениях Пришвина, он
является в них доминантным, стержневым, организуя вокруг себя не
только пространство и время, но и героев произведений.
В творческом наследии Пришвина мотив странствий актуализи
рован в качестве центрального семантического инварианта художественного пространства, концептуально значимого, обладающего
смыслосозидающей, сюжетообразующей функциями, выступающего
в качестве важнейшей структурно-семантической единицы повествования.
Являясь смысловым центром универсального концепта «движения», он обладает высокой репродуктивностью и поливариативностью. Отмечая устойчивость и репрезентативность данного мотива,
следует подчеркнуть, с учетом его художественного своеобразия и
способов реализации в тексте, что он концептуализирует единое «эктропическое» (В.Топоров) пространство, ибо объединяет и проясняет
глубинные смыслы и значения, которые обнаруживаются в биографических фактах, в дневниках и художественном мире писателя. В
частности, говоря об истоках креативных интенций писателя, следует
отметить, что в пришвинском дискурсе мотив странствий имеет биографическую точку отсчета: реальный побег из гимназии подростка
Пришвина, получивший художественное отражение в автобиографическом романе «Кащеева цепь». Первое детское путешествие в поисках «страны ослепительной зелени», семантически и функционально
варьируется во многих произведениях писателя, программируя сюжетное развитие, становясь по-настоящему «сюжетогенным» концептуальным феноменом. Мотив странствий становится как бы сверхуровневой единицей текста, связанной с такими значимыми концептами художественного мира Пришвина, как творчество (жизненный
путь), самоидентификация, тайна жизненного и природного пространства, феномен сознания, явления космоцентричности и др.
Пришвин был настоящим «героем пути», и в этом смысле он
изоморфен своим многочисленным странникам, скитальцам, путешественникам и, прежде всего, автобиографическому герою Алпатову
(«Мирская чаша», «Кащеева цепь» и др.).
Путешествие, «охота к перемене мест» стали для Пришвина
способом «творческого существования», возможностью видеть жизнь
во всем еѐ качественном разнообразии, возможностью держать себя в
«творческой форме». Вектор его странствий – север и восток евразийского пространства России. Русский север («В краю непуганых
птиц», «За волшебным колобком», «Осударева дорога» и др.) стал его
«писательской родиной»; восточные путешествия («Черный араб»,
«Жень-шень» и др.) помогли понять Россию как Евразию, единую и
неделимую.
Путешествия-странствия были прежде всего возможностью эт
нографического изучения народного быта, постижения основ национального самосознания. Он смотрит на все глазами человека, имею
щего определенную философскую позицию – понимание окружающего мира как «великого всеединства» (Н.Борисова), в котором каждый «атом», каждая частица существует в онтологической взаимозависимости. Как правило, странствия его героев имеют четкую географиче скую траекторию, но художественно преображенную и весьма значимую для выявления судьбы героя. Важно отметить, что странствие, являясь вечным, универсаль ным способом освоения мира, особо значимо в нашем национальном бытии. Мотив странствий в русском фольклоре, литературе связан с важнейшим архетипом национального сознания – выбором жизненного пути в бескрайнем пространстве, при этом, такого пути, в котором акцентируется духовное измерение человека. Русский человек – «…странник, постоянно готовый вывести за скобки сложившийся социально организованный порядок. Этому странничеству благоприятствует русский простор, в котором с легкостью растворяются застывшие культурные и социальные формы» [116, 150]. Странствие как архетип национального бытия и сознания имеет чрезвычайно широкий спектр ассоциаций. Главные из них связаны с особым типом героя – «героем пути» (Ю.Лотман). Источник движения содержится в этой непреодолимой тяге русского человека к бескрайним далям, открытому пространству, в непонятном для рационального мышления внутреннем беспокойстве, которое имеет власть над национальным характером. «Из чего складывается счастье русского, - отмечает Пришвин, - первое, что можно куда-то уйти-уехать, постранствовать куда-нибудь в Соловецкий монастырь, или в Киевские печуры Богу помолиться, или в Сибирь на охоту, или в просторы степные так походить – это тяга к пространству Руси «необъятному» [25, 47]. Характерно, что «тягу к пространству» он рассматривает в качестве духовного фактора русской жизни» [35, 64]. Пришвин и жизнь понимал как путешествие, странствие, утверждая, что шѐл странником в русском народе, прислушиваясь к его говору» [6, VIII, 256]. У Пришвина странствие – не просто путешествие по лицу земли с определенными прагматическими целями; чаще всего – это «духовное странствие», а странник в дневниках и прозе – «вечный образ русской жизни». «Странник, - по определению известного филолога и культуролога Ю.Степанова, - др.-рус. страньникъ, конечно, слово яс
ное – от сторона, страна – «путешествующий по разным странам» [143, 184]. В одном семантическом ряду со словом «странник» находятся такие слова как «скиталец», «калика», «паломник», «бродяга», репрезентирующие такой комплекс идей как «бродяжничество», «нищенство», «щедрость», подача милостыни; убогость, покалеченность и богатырство; нищета тела и святость духа» [143, 184]. Этимология данных слов обнаруживает общие смысловые компоненты и поэтому в народном сознании они выступают как речевые синонимы. Всякое странничество есть «одновременно и физическое и мен тальное, и слово «реальность» в применении к нему имеет, в слитности, оба смысла: это и «уход физический» и «уход ментальный», но и тот, и другой реальны» [143, 185]. Паломниками, как правило, называются путешественники, имеющие «конкретную цель, точку прибытия» [143, 184]. «Русское слово «калика», - утверждает Ю.Степанов, - может восходить к «калека», к чисто ареальному восточноевропейскому слову для обозначения «убогого» - калеки часто как раз и становились бродягами, побирушками. Но также возможно и обратное развитие – от «убогий», «калека» к «бродяга, калика», несомненно одно – синонимизация этих явлений и понятий в древнерусском быту» [143, 185]. Неизбывную тоску странничества у Пришвина испытывают ге рои и сам повествователь, ибо он, как и автор, является «человеком, не предопределенным раз и навсегда», человеком, взыскующим «горнего» в этом «дольнем мире». Многие пришвинские герои, особенно в ранних очерках, являясь людьми глубоко верующими, испытывают «особую онтологическую тягу к Высшему»: «Отмеченная энергетикой восходящего, верующая «аскетическая личность» космоцентрична: она удаляется от общества со всей его греховной суетой не в темном, а в светлом космическом горизонте… Иными словами, православный тип личности не социоцентричен, а космоцентричен» [116, 144]. Таковы странники-богомольцы у Пришвина («В краю непуганых птиц», «за волшебным колобком», «У стен града Невидимого», «Кащеева цепь»), преодолевающие социоцентризм, ищущие места «чистые, не заполненные человеческой скверной». Многие стремятся в монастыри, которые становятся местом массового паломничества. Концепт «странствие», как правило, не существует в прозе Пришвина в «чистом виде», но имеет множество разновидностей.
Помимо духовного странничества, о котором мы уже упоминали, можно отметить ментальное странствие-путешествие («Кащеева цепь», «Черный Араб»), интеллектуальную «одиссею» героя («Кащеева цепь»), странствие-паломничество («За волшебным колобком»), странствие-скитальчество («У стен града нвидимого»). Мотив странствий и его разновидности реализуются в формате временнопространственных отношений, отмеченных многослойностью и особой интенсивностью. Пространство странствий - это своеобразная матрица жизни автора и его героев. Движение в пространстве обращено к различным типам времени – историческому и мифологическому, объективному и субъективному, событийному, обладающему амбивалентной семантикой. Важно подчеркнуть, что, многозначно варьируясь, мотив стран ствий структурно, семантически и функционально связан с близкими мотивами, обладающими устойчивым набором значений: мотивом тайны, поисками себя, свободы, мотивом поисков главного жизненного пути и др. При этом, Пришвин существенно варьирует способы воплощения мотива-инварианта, обращаясь к архетипическому фонду, в частности, к пространственно-временным архетипическим символам, к сновидческим знакам, языку цветописи и др. Особенно актуальны в этом случае локально-этические знаки, выстраивающие такую структуру хронотопа дороги, которая становится центром архитектоники произведения. Многие герои Пришвина характеризуются через тот или иной способ преодоления пространства: моряки, поморы, «полесовщики», мужики и др. При этом «люди странствующие» у писателя, как правило, обладают ярко выраженными моральными качествами, в силу этого данный мотив приобретает и аксиологическое значение. Как правило, у странствия имеется определенная задача: поиски сакрального пространства («В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб» и др.), поиски себя, «своего внутреннего человека», выбор жизненного пути («Кащеева цепь»). В автобиографическом романе «Кащеева цепь» странствия Алпатова мы рассматриваем как индивидуальную дорогу главного героя в борьбе за его «Я», как путь собирания своего «Я» в контексте с «Другим». Странствие помогает выйти автобиографическому герою Алпатову за пределы собственной самости. Это свидетельство эволюции человека, который обретает свободу в сложном историческом социуме.
ЧАСТЬ 1. МОТИВ СТРАНСТВИЙ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ Глава 1. Мотив странствий в хронотопической парадигме архаического сознания Для решения поставленной задачи необходимо прояснить кон цептуально-смысловые константы исследуемого мотива в широком историко-культурном контексте, семантическим ядром которого выступает движение. Движение является универсальным, всеобъемлющим свойством жизни в самых различных ее формах. Обладая онтологическим статусом, движение определяется в качестве главного способа существования эмпирической реальности. С древнейших времен движение «рассматривалось как основная причина явлений»… [103, 460]. Мыслители древности определяли движение в качестве перво начала Вселенной, первопричины вещей, ибо в органической и неорганической природе все подвержено феномену изменения. Великий Ньютон допускал возможность Божественного начала мира, творения, Божественной первопричины, первотолчка. В различные эпохи структурные и функциональные характери стики движения воспринимались в зависимости от фокуса исследовательского внимания. Так, например, в философии Лейбница, Гегеля движение рассматривалось как качественное, а не механическое изменение, направленное прежде всего на разрешение диалектических противоречий. Диалектический материализм исходил из того, что «… материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Движение поэтому так же несотворимо и неразрушимо, как и сама материя» [163, 138]. Современная наука феномен движения изучает в органической связи с явлениями времени, пространства и энергии. В европейской культуре движение выражается через семантическую дифференциацию изменения, развития и покоя. Качественные и количественные формы движения отражают соответствующие изменения объектов. Механический детерминант движения был потеснен немецкой классической философией, создавшей мировоззренческую базу для более глубокого исследования законов движения, в результате чего в центре внимания оказались такие формы движения, как изменение, ста
новление, развитие. В центре марксистского мировидения было социальное движение. Ф. Ницше рассматривал мир как вечное становление, как постоянное изменение качественно-количественных сил. Это есть становление кажущегося мира, который и является, в представлении Ф. Ницше, единственно реальным. В философии А. Шопенгауэра главной движущей силой стано вится воля – центральная философема в его системе. Действующая в мире всеобщая воля вызывает универсальное движение предметов и явлений. Особенно интересными оказываются научные и философские представления о движении во второй половине XX столетия: рассматриваются формы движения в области космологии, биосферы, социальной и культурной эволюции. Возникает своеобразная философия движения. В современных условиях исследователям приходится пересматривать многое из классических взглядов, определяя движение как длительность, изменение, а зачастую как самодвижение сложных систем во всем их качественном разнообразии. Вводя в понятие движения идею антропоцентричности, следует определять движение по субъекту, его носителю. В этом случае целесообразно разделить движение на два типа: материальное и духовное, которое, в свою очередь, дифференцируется как интеллектуальное, духовное, волевое. Эти разновидности движения направляются человеком к достижению своих целей. В современной науке движение рассматривается в контексте его связи с пространством и временем. Движение как непрерывный процесс развития мира предполагает прежде всего взаимодействие человека с материальным и духовным пространством. Кроме того, в наше время движение приобретает особенно высокую степень интенсивности и напряжения как в локальном, так и в темпоральном значении. Движение, осуществляемое в диалектическом единстве проти воречий внешнего и внутреннего, прерывного и непрерывного, устойчивого и неустойчивого и др., проявляет себя в хронотопе – особом синтезе времени и пространства. Хронотоп – универсальная эстетическая категория в современной культурной модели мира, обладающая интегративными функциями. Хронотоп получил глубокое обоснование в работах М.М. Бахтина, в которых этот феномен атрибутируется как «существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе [19, 234]. «Хронотоп («времяпространство») в узком смысле: эстетическая ка