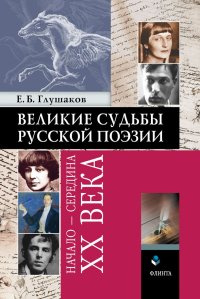Великие судьбы русской поэзии : начало — середина XX века
Покупка
Тематика:
История литературы
Издательство:
ФЛИНТА
Автор:
Глушаков Евгений Борисович
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 288
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-9765-2514-6
Артикул: 647534.05.99
Заложница перегруженного идеологией режима — вот кем была русская поэзия в эпоху пролетарской диктатуры. Но чем страшнее было время, тем отважнее и благороднее звучали поэтические голоса в защиту попранной справедливости и поруганной красоты. Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Пастернак... Великие, героические судьбы поэтов — непримиримых борцов за всё истинное и прекрасное в жизни и в человеке.
Для студентов и преподавателей вузов, а также всех тех, кто неравнодушен к поэзии.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Магистратура
- 44.04.01: Педагогическое образование
- 45.04.01: Филология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Е.Б. Глушаков ВЕЛИКИЕ СУДЬБЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ НАЧАЛО — СЕРЕДИНА XX ВЕКА 4-е издание, стереотипное Москва Издательство «ФЛИНТА» 2019
УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2=411.2)6
Г55
Глушаков Е.Б.
Г55
Великие судьбы русской поэзии : начало — середина XX века
/ Е.Б. Глушаков. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. —
288 с. — ISBN 978-5-9765-2514-6. — Текст : электронный.
Заложница перегруженного идеологией режима — вот кем была
русская поэзия в эпоху пролетарской диктатуры. Но чем страшнее
было время, тем отважнее и благороднее звучали поэтические голоса в защиту попранной справедливости и поруганной красоты. Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Пастернак... Великие, героические
судьбы поэтов — непримиримых борцов за всё истинное и прекрасное в жизни и в человеке.
Для студентов и преподавателей вузов, а также всех тех, кто неравнодушен к поэзии.
УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2=411.2)6
ISBN 978-5-9765-2514-6
© Глушаков Е.Б., 2016
© Издательство «ФЛИНТА», 2016
СОДЕРЖАНИЕ «Нас четверо...» (предисловие) ......................................................................4 «Люблю эту бедную землю...» (Осип Эмильевич Мандельштам) .............7 «А мне за песню — две слезы...» (Марина Ивановна Цветаева) .............76 Скорбный дух (Анна Андреевна Ахматова) .............................................134 Юродивый (Борис Леонидович Пастернак) .............................................215
«Нас четверо...» Слово, испытующее сердца и просвечивающее души, поэзия — кому и зачем она нужна? А поэтов, этих провидцев сокровенного и глашатаев запретных истин, как и почему терпит лукавая, лицемерная власть? Пастернак, Ахматова, Мандельштам и Цветаева — Робинзоны русской поэзии, выброшенные Октябрьской бурей на безлюдный остров советской действительности. Одинокие одиночеством гения, просвещённости и благородства, они были изначально обречены на гибель. Дикое, страшное, враждебное окружение сблизило их, сбило в дружную кучку. И всякий раз, озираясь по сторонам в поисках поддержки, неизменно убеждались в предельной ограниченности своего круга: «Нас четверо...» «Не трогайте этого юродивого», — однажды сказал Сталин своим ретивым «опричникам», которые были уже готовы расправиться с Пастернаком. Спасительная рекомендация. На Русской земле во все века только юродивым дозволялось говорить правду. Да и на поэтов иначе как на юродивых никто не смотрел. Не от мира сего... Впрочем, иногда их приближали к трону. Для забавы, конечно, в качестве умных шутов. Таковыми были Тредиаковский, Державин, Жуковский, Пушкин, Тютчев... Ну а поэты ерепенились, упирались как могли, отстаивали своё человеческое достоинство. Михайло Васильевич Ломоносов, помнится, заявил своему чванливому и самодовольному патрону, что шутом и у Самого Господа Бога быть не желает. Получилось, что оного сановника с Всевышним сравнил. Опять-таки смешно... А поэтам по наивности представлялось, что они и нравственно влияют на своих повелителей, и воспитывают их. На самом
же деле и шутами были неважными. Хороший шут не хуже собаки настроение хозяина чувствует. Когда нужно, умеет и польстить. Нет, всё-таки не шуты, а юродивые — и так же нищи, и у толпы, потешающейся над ними, на иждивении пребывают. Хотя случается толпе и горькие страшные обличения от них выслушивать, причём с благоговейным ужасом. Между тем порвав с православием, лишилась власть и благодушного взгляда на юродивых. Не умилялась и нездешним откровениям поэтов. Тут уже и всякое перо возвышенное идеологическими путами постарались повязать. И на вдохновение творческое — серп и молот, как магическое заклятие, положили... Но ведь суть подлинной поэзии и состоит в её полной свободе, когда поэт в жизни и творчестве подчиняется только высоким наитиям. Убивать? Но сделать это тихо, незаметно слава их немереная мешает. А до славы они и властям неизвестны, и не нужны никому. Одно спасает: очень уж у них натуры тонкие, деликатные. Надавишь тут, прижмёшь там, поглумишься над сердечными, глядишь, сами головы свои светлые в петлю сунули, или маузер к сердцу приставили и — ба-бах! С Цветаевой получилось чуть сложнее. Упиралась, жила. Держалась и душою измученной, и плотью исстрадавшейся. То ради любимого мужа, то ради обожаемого сына. Однако тоже этих силков небесных — петли — не минула... Разумеется, добровольно. И уж совсем упорными оказались Пастернак, Ахматова, Мандельштам. Жили и жили, писали и писали. Но и этих — от одной травли до другой, от одного инфаркта до другого — тоже допекли. Правда, к самому оптимистичному, самому живучему из них, Осипу Эмильевичу, пришлось более жёсткие меры применить: и физическое воздействие, и ссылку, и лагерь... Коммунистический террор, уничтожавший поэтов — одного за другим, совершал свой привычный обратный отсчёт: «Трое... двое... одна... ни одного...» И то сказать, ведь любому тоталитарному режиму, на социализме будь основан или на фашизме, нужны солдаты, и только солдаты.
А юродивые? Ни к чему! Но и когда поэты нашли последнее успокоение: кто на Ваганьковском кладбище в Москве, кто в братской могиле под Владивостоком, кто на «Литературных мостках» под Петербургом, кто в Елабуге, — звучит прежняя цифра, разве что с другим местоимением: «Их четверо...» И это — уже навсегда!
«ЛЮБЛЮ ЭТУ БЕДНУЮ ЗЕМЛЮ...» ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ Кажется, не было среди крупных русских поэтов человека более противоречивого и натуры в житейском смысле более несуразной, чем Осип Эмильевич Мандельштам. В его характере душевная мягкость сочеталась с мужеством; скромность, доходящая до самоуничижения, легко сменялась самой вызывающей дерзостью; а тщедушное телосложение оборачивалось спартанской выносливостью и непритязательностью аскета. Такой человек не мог не выглядеть чудаком, и выжить в стране, столь резко и определённо поделившейся на красных и белых, ему едва ли представлялось возможным. Родился поэт 3 января 1891 года в Варшаве, в среднебуржуазной еврейской семье. Отец, Эмилий Вениаминович, занимавшийся выделкой замши, был ещё и доморощенным философом, которого в силу его косноязычия никто не понимал. Цитаты из Руссо, Спинозы, Шиллера, приводимые словоохотливым кожевником, только подчёркивали очевидную бессмыслицу его самостийных рассуждений. А между тем тяга к мировоззренческим вопросам одолевала его едва ли не с детства. Было и такое, что 14-летний Эмилий, прочимый родителями в раввины, вдруг сбежал в Берлин и там вместо талмуда увлёкся философией да поэзией. Вернулся, конечно. Пришлось. Зато и в перчаточной мастерской, и на кожевенном заводе многоре
чивый Эмилий Вениаминович не однажды повергал клиентов в ужас своими проповедями во славу французских просветителей. Мать будущего поэта пугалась не слишком понятных рассуж дений мужа и старалась оградить от него детей. Сама же Флора Осиповна, в девичестве Вербловская, была интеллигентна, культурна и доводилась родственницей С.А. Венгерову, историку русской литературы. В противоположность супругу, она владела чистой и ясной русской речью. Разительным несходством родителей, очевидно, и объясняется парадоксальность натуры их старшего сына. Можно сказать, что Осип оказался чем-то сродни их семейной библиотеке, о которой впоследствии написал: «Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, неслучайно отлагалась десятки лет. Отцовское и материнское в ней не смешивалось, а существовало розно, и, в разрезе своём, этот шкапчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови». Можно сказать, что и сам поэт оказался итогом «духовного напряжения целого рода», а «прививкой к нему чужой крови» явилась великая русская литература. В 1894 году семья переехала в Павловск, а ещё через три года в Петербург. Воспитанная в русских интеллигентских традициях, Флора Осиповна и гувернёров для детей нанимала, и за чтением их следила, и любовь к искусствам насаждала. Особенно к музыке, ибо сама была превосходной пианисткой. И уже брезжила Осипу вполне благополучная будущность интеллигентного, солидного буржуа. Тем более что основы начального и среднего образования юноши закладывались в Тенишевском коммерческом училище, в котором он обучался с 1900 по 1907 год. Однако уже тогда было в Осипе нечто не укладывающееся в благопристойные рамки родительских планов. Где-то под спудом уже бурлили в нём и отцовская невыговоренность, и стремление сказать своё слово.
Впрочем, коммерция значилась только на вывеске Тенишевского училища. Скорей всего именно эта вывеска и убедила Осиных родителей поместить туда своего ребёнка. На самом деле, это был едва ли не лучший по той поре питомник Муз, обладающий собственной обсерваторией, экзотической оранжереей, двумя библиотеками. Достаточно вспомнить, что среди его выпускников числились такие «коммерсанты», как В.В. Набоков и В.М. Жирмунский. И было Тенишевское училище столь же удивительным учебным заведением, как Царскосельский лицей в пушкинскую пору. Великолепно оборудованное, с прекрасно подобранным преподавательским составом да к тому же свободное от оценок, экзаменов, академической долбёжки! Публичные лекции, экскурсии, собрания Литературного фонда, заседания Юридического общества, свой журнал. Вот, кроме занятий по расписанию, привычный обиход и круг существования этого училища. Не к античным ли традициям Афинской школы восходили интеллектуальная и личностная свобода его учащихся и педагогов? Не в его ли стенах проросли первые семена российской демократии, для ощутимого развития которой XX столетия оказалось мало? До чего же этот учебный либерализм оказался в масть близящимся революциям и гражданскому хаосу. И куда после таких лицеев и училищ пойдёшь? Или на Сенатскую площадь — с декабристами, или на Дворцовую — с вооружённым пролетариатом. В зависимости от указующего перста вождей... Ещё время только подходило к 1905 году, а Россия уже закипала настроениями бунта и мятежа. Всеобщая заряженность на восстание прорывалась и в «непревзойдённом безумии великопостных концертов Гофмана и Кубелика в Дворянском собрании». Даже холодное мастерство этих двух исполнителей, даже рояль и скрипка были способны привести в ярость толпу, готовую разворотить и кресла, и эстраду — настолько взрывоопасен был воздух самых первых лет кошмарного века.
Диво ли, что в старших классах Осип увлёкся эсеронародническими идеями и поэзией. Ну а по окончании училища попытался вступить в боевую эсеровскую организацию. Не приняли: мал ещё... А вот со стихами получилось складнее. В.В. Гиппиус — поэт, преподававший в Училище словесность, — сумел так духовно подчинить себе и увлечь юношу, что его незримое влияние Мандельштам ощущал и впоследствии. Более того: на всю дальнейшую жизнь вкус и предпочтения учителя стали главным поэтическим камертоном ученика. Если родители Осипа Эмильевича первое время не противились его стихотворству — кто в юности не писал? — то революционные наклонности сына обеспокоили их настолько, что мать поспешила услать его на учёбу за границу, подальше от охваченной смутой России. Можно не сомневаться, что приволье самостоятельной жизни пропитало молодого человека ещё большей независимостью и свободолюбием. Он не только слушал лекции в Сорбонне, не только проходил курс романской филологии в Гейдельберге, но не преминул посетить и парижские выступления знаменитого террориста Бориса Савенкова. Предпринял Мандельштам поездки и к Швейцарским озёрам, и в курортно-музейную Италию. Впечатления этой поры ещё не однажды отзовутся в стихах поэта: и Париж, и Рим, и Средиземное море, и вся многосложная европейская культура, с её архитектурой, живописью, музыкой и поэзией. Промелькнут в его строках и характерные интонации полюбившихся Мандельштаму французских символистов, но очень скоро исчезнут, растворятся в неповторимом звучании его собственного голоса. Наибольшее влияние на Осипа, по его собственному признанию, оказали стихи не слишком известного, но чрезвычайно оригинального и тонкого поэта Иннокентия Анненского. К нему юноша однажды и прикатил на велосипеде, прихватив тетрадку своих стихов. Познакомившись с её содержимым, Анненский, чей поэтический талант окреп в переложении на русский язык