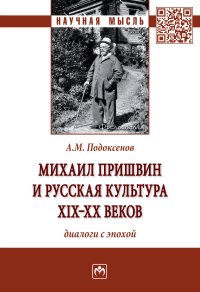Михаил Пришвин и русская культура ХIХ-ХХ веков: диалоги с эпохой
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Философия искусства и культуры
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Год издания: 2021
Кол-во страниц: 324
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-16-016854-8
ISBN-онлайн: 978-5-16-109425-9
DOI:
10.12737/1246522
Артикул: 751092.01.01
К покупке доступен более свежий выпуск
Перейти
В монографии исследуется проблема творческого диалога М.М. Пришвина с выдающимися деятелями отечественной культуры: В.В. Розановым, Д.С. Мережковским, Г.В. Плехановым, И.А. Буниным, А.А. Блоком, М. Горьким, Н.О. Лосским, А.Ф. Лосевым. Анализируется влияние их философско-мировоззренческих идей на искусство писателя.
Адресована культурологам, философам, филологам и всем, кто интересуется русской литературой.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 00.03.05: Культурология
- 00.03.09: Русский язык и культура речи
- 45.03.01: Филология
- ВО - Магистратура
- 44.04.01: Педагогическое образование
- 45.04.01: Филология
- 51.04.01: Культурология
- ВО - Специалитет
- 00.05.05: Культурология
- 00.05.09: Русский язык и культура речи
- Аспирантура
- 44.06.01: Образование и педагогические науки
- 45.06.01: Языкознание и литературоведение
- 51.06.01: Культурология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Михаил Пришвин и русская культура ХIХ-ХХ веков: диалоги с эпохой, 2023, 751092.03.01
Михаил Пришвин и русская культура ХIХ-ХХ веков: диалоги с эпохой, 2022, 751092.02.01
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
МИХАИЛ ПРИШВИН И РУССКАЯ КУЛЬТУРА ХIХ—ХХ ВЕКОВ ДИАЛОГИ С ЭПОХОЙ А.М. ПОДОКСЕНОВ Москва ИНФРА-М 2021 МОНОГРАФИЯ
УДК [1+82](470+571)(075.4) ББК 87.3:83.3(2Рос=Рус) П44 Подоксенов А.М. П44 Михаил Пришвин и русская культура ХIХ—ХХ веков: диалоги с эпохой : монография / А.М. Подоксенов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 324 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1246522. ISBN 978-5-16-016854-8 (print) ISBN 978-5-16-109425-9 (online) В монографии исследуется проблема творческого диалога М.М. Пришвина с выдающимися деятелями отечественной культуры: В.В. Розановым, Д.С. Мережковским, Г.В. Плехановым, И.А. Буниным, А.А. Блоком, М. Горьким, Н.О. Лосским, А.Ф. Лосевым. Анализируется влияние их философско-мировоззренческих идей на искусство писателя. Адресована культурологам, философам, филологам и всем, кто интересуется русской литературой. УДК [1+82](470+571)(075.4) ББК 87.3:83.3(2Рос=Рус) ISBN 978-5-16-016854-8 (print) ISBN 978-5-16-109425-9 (online) © Подоксенов А.М., 2021 Р е ц е н з е н т ы: Коротких В.И., доктор философских наук, профессор Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина; Римский В.П., доктор философских наук, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета
Введение Творчество Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) относится к тому направлению отечественной литературы, признаком которой выступает органическое родство с философскими и мировоззренческими идеями своего времени. Многообразное художественное, дневниковое и эпистолярное наследие писателя свидетельствует о том, что ему в полной мере присущи те качества и черты, которые характеризуют классическую русскую словесность. И сегодня, по мере переиздания публицистики революционного периода, выхода в свет задержанных из-за цензуры художественных произведений и особенно многотомного Дневника становится все более ясно, что перед нами оригинальный мыслитель с собственным философским взглядом на мир, природу и общество. Философичность пришвинского искусства подчеркивается почти всеми как дореволюционными, так и советскими и постсоветскими исследователями. Еще в 1911 году Р.В. Иванов-Разумник, один из самых проницательных литературных критиков своего времени, отмечал, что мысль начинающего писателя идет «от глубины тайников души человеческой… От индивидуального к универсальному, от личности к космосу; но все же на лоне Великого Пана нужна и ценна автору живая душа человеческая, нужна индивидуальность живого существа»1. И через полвека Т.Ю. Хмельницкая, автор первой монографии о Пришвине, заключала, что он «никогда не ограничивается изображением увиденного. Он всегда философски осмысляет изображаемое. Это не абстрактная, умозрительная философия, а всегда очень внутренняя, со всей психологической неповторимостью его писательской индивидуальности»2. Но хотя о философском характере творчества Пришвина говорили многие исследователи, постижение этого аспекта наследия писателя зачастую лишь декларировалось, осуществляясь преимущественно с позиций односторонних методологических парадигм: мифологической, религиозной, фольклорно-сказочной, природноэтнографической, вульгарно-социологической, соцреалистической и т.п., что неизбежно вело к искажению философско-мировоззренческих взглядов автора. Выявить основные факторы историко-культурного и философского контекста, который обусловливает интересующий нас спектр взаимоотношений Пришвина с писателями и мыслителями своего 1 Иванов-Разумник Р.В. Великий Пан // Иванов-Разумник Р.В. Соч. Т. 2. Творчество и критика. СПб., 1913. С. 52. 2 Хмельницкая Т.Ю. Творчество Михаила Пришвина. Л., 1959. С. 14.
времени, чтобы посредством анализа свести различные элементы к их внутреннему единству, возможно, если в качестве специфического «целого», служащего предметом исследования, будет взят мировоззренческий контекст их творческого диалога. Ведь именно мировоззрение является универсальной «системой представлений о мире и месте в нем человека, об отношении человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции и установки людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации»1. В результате становится возможным как учет разнообразных влияний на Пришвина, так и осмысление его творчества с позиций интегрирующего фактора, включающего в себя целостный комплекс мифологических, религиозных, философских, политических, нравственных, эстетических, экологических воззрений, творческих принципов и ценностных ориентиров. Разумеется, осуществление этой задачи предполагает тщательный анализ взаимосвязи всех этих различных факторов и влияний. Для того чтобы определить, в чем же именно выражается философичность пришвинского творчества, необходимо уточнить значение концепта «философская проза». По нашему мнению, для философской прозы как особого жанра литературы характерен ряд конкретных признаков. Главное — это постановка тех проблем бытия, которые являются философскими (например, кантовские: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?»), на которые автор дает ответ, художественно постигая мир с помощью имеющихся знаний, интуиции или анализа собственного экзистенциального опыта. Художественный гений в таком случае может позволить автору (как, например, Ф.М. Достоевскому или Л.Н. Толстому) встать на один уровень с величайшими философами. К философской прозе следует отнести также и произведения, в которых автор целенаправленно применяет те или иные философские концепции для художественного постижения мира, творчески используя понятийно-терминологический аппарат или специфическую методологию, что позволяет доказательно определить мировоззренческую близость данного автора к позиции конкретного мыслителя, к тому или иному философскому учению, школе, направлению. Особенности философско-мировоззренческого дискурса Пришвина станут более понятны, если рассмотреть его искусство в контексте не только общей идейно-политической и социокультурной атмосферы эпохи, но и в контексте общения с отечественными мыслителями ХХ века, под влиянием которых происходило раз 1 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 366.
витие таланта писателя. Ведь именно «в этом управлении талантом, в смысле сознательного очищения своего “я” от мусора индивидуального и нахождения его в “мы”, по-моему, и заключается весь интерес писательства. Трудно это ужасно!»1 — говорил сам Пришвин о необычайной сложности путей постижения духовной целостности человеческого бытия через изображение отдельных внешних форм жизни индивида. И здесь вполне уместно вспомнить сказанные еще в 1909 году слова Александра Блока, что характерным признаком пришвинского творчества является контекстуальная глубина и содержательность: «От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные. <…> Отсюда много могут почерпнуть и художник, и этнограф, и исследователь раскола и сектантства»2. Как свидетель бурных исторических событий, Пришвин хотел рассказать обо всем, что было пережито им в эпоху социальных катаклизмов рубежа ХIХ–ХХ веков, о чем говорят черновые наброски задуманного им романа «Начало века», где автобиографический герой начинает свой жизненный путь с «утраты родного Бога, на место которого последовательно становятся на испытание все господствующие учения века»3. Мысль о задуманном в первые годы ХХ века, но так и не написанном романе многие годы не давала покоя автору, постоянно побуждая возвращаться к намерению художественно отобразить тех деятелей отечественной культуры, которые встретились на его творческом пути. «Мне захотелось написать свою книгу, в которой тоже пройдет целая литературная эпоха, но чтобы это было не воспоминание, а роман (3-я книга “Кащеевой цепи”). Эпоха 1-й революции. <…> Лица: Мережковский, Розанов, Блок, Белый, Брюсов, Бальмонт, Гиппиус, Шестов, Савинков, Ремизов, Горький…»4 — в очередной раз обращается Пришвин в 1928 году к сюжету романа «Начало века». Правда, теперь в отличие от дореволюционного времени на пути реализации творческого замысла романа о революционной эпохе и «спутниках жизни» вставали уже не столько художественные, сколько идейнополитические обстоятельства условий существования писателя при Советской власти. Как известно, революционный переворот 1917 года и приход партии Ленина к власти ознаменовался кардинальной сменой не только культурной политики государства, но и стремлением к тотальной идеологизации как всех сфер искусства, так и самого творческого процесса. Многие отечественные писатели и мысли 1 Пришвин М.М. Дневники. 1930–1931. СПб., 2006. С. 258. 2 Блок А.А. М. Пришвин. У стен града невидимого // Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М. — Л., 1962. С. 651. 3 Пришвин М.М. Ранний дневник. 1905–1913. СПб., 2007. С. 300–301. 4 Пришвин М.М. Дневники. 1928–1929. М., 2004. С. 184.
тели, не принявшие Октябрьской революции, были вынуждены отправиться в эмиграцию, в том числе и упомянутые писателем Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, А.М. Ремизов, К.Д. Бальмонт, Л. Шестов… Переехавший из революционного Петрограда в подмосковный Сергиев Посад В.В. Розанов умер от голода и болезней в начале 1919 года. И по той же причине в 1922 году скончался А.А. Блок. Оставшиеся же на Родине деятели русской культуры почти все в той или иной степени подверглись давлению большевистского режима, о чем говорит хотя бы тот факт, что под запретом оказалась значительная часть творчества даже Максима Горького, официально провозглашенного главным советским писателем, родоначальником искусства социалистического реализма. Пришвин также в полной мере испытал цензурный гнет власти. Более того, один из главных вождей большевизма Л. Троцкий в 1922 году даже провозгласил его творчество «контрреволюционным»1. И хотя по счастливой случайности писатель не попал под удар репрессивных органов государства, в советском литературоведении он многие годы считался «мелкобуржуазным литератором» и подозрительным «попутчиком» рабоче-крестьянской власти. Поэтому ни о каком объективном научном исследовании мировоззренческого диалога Пришвина с мыслителями, которых власть признала «врагами народа», в эпоху соцреалистического партийно-классового литературоведения не могло идти и речи. Да это и понятно: если художественные произведения Пришвина порою с трудом еще както преодолевали большевистскую цензуру, то творческое наследие В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, Н.О. Лосского, И.А. Бунина, да и многих других выдающихся представителей русской интеллигенции, чьи философско-мировоззренческие взгляды были несовместимы с идеологией большевизма, практически весь советский период было полностью изъято из отечественной культуры. Следует подчеркнуть, что для понимания творчества Пришвина особую значимость имеет его Дневник — явление уникальное в отечественной культуре, как свидетельство человека, жившего полнокровной художественной и политической жизнью, бывшего участником или свидетелем многих значимых событий последних двух десятилетий царской власти, Октябрьского переворота и почти четырех десятилетий мучительного и тяжелейшего строительства социалистического общества, прерванного Великой Отечественной войной. Создаваемый ежедневным полувековым трудом, без ма 1 В пришвинском Дневнике 1922 года приводится отзыв Троцкого на посланную ему для рецензии книгу «Мирская чаша»: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна» (Пришвин М.М. Дневники. 1920–1922. М., 1995. С. 267).
лейшей надежды на публикацию в условиях большевистского режима, Дневник имеет объем около 600 печатных листов, из которых в новейшее время с 1991 по 2015 год опубликовано 16 томов, охватывающих период с 1905 по 1950 год. Дневнику отдавалось многое из творческого потенциала, и Пришвин отмечал в 1951 году: «Наверно, это вышло по моей литературной наивности (я не литератор), что я главные силы свои писателя тратил на писание своих дневников», а годом позже скажет, что «если очистить их от неудач, и так бы сделать лет за десять, и очищенное собрать в один том, то и получится та книга, для которой родился Михаил Пришвин»1. Поэтому понятно, что как самостоятельное художественное произведение Дневник имеет законное право именоваться с большой буквы. Феномен таланта Пришвина как писателя и мыслителя — это умение, с одной стороны, перевести события внешнего мира в художественно-эстетическую систему образов искусства, а с другой — выразить духовный мир в понятийной системе научного знания. Текст Дневника диалогичен и полемичен, ибо автор не просто свидетельствует о своем времени, но рассуждает, спорит и оценивает революционную эпоху, выступая против самих устоев советского политического режима. Если официальный образ Пришвина как «русского советского писателя» формировался на основе допущенных цензурой произведений, то его невидимый, по выражению Достоевского, образ «подпольного человека» мог существовать только нелегально и потаенно. Отсюда искаженность истинного облика писателя, активно участвовавшего в жизни как видимой части айсберга советской культуры, так и опасной подводной части айсберга — контркультуры, которая подвергалась политическим гонениям, вела к физической гибели. Диалогизм и полемизм — это характернейшая черта творчества и миропонимания Пришвина, и только через внимательный анализ этого отличительного свойства пришвинского дискурса возможно постижение его поэтики, всегда погруженной в реальный контекст бытия, населенного конкретными людьми, которых он любит или недолюбливает, с которыми дружит или спорит, а с иными всю жизнь ведет мировоззренческий диалог. Поэтому значимость результатов исследования творчества писателя будет прямо пропорциональна степени погруженности в историко-культурный контекст эпохи, который определяет характерные смыслы и значения событий, действий и замыслов персонажей в художественных произведениях автора. Поскольку для творчества Пришвина характерен синтез художественного и философского начал, то главной 1 Пришвин М.М. Дневники. 1905–1954 // Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М., 1986. С. 549, 576.
задачей данной монографии является исследование влияния на мировоззрение писателя тех философов и мыслителей, с которыми были связаны его жизнь, и, в свою очередь, рассмотрение того, как это влияние обнаруживается в художественном бытии, в поступках и размышлениях персонажей в различных произведениях художника.
Глава I МИХАИЛ ПРИШВИН И ИВАН БУНИН: МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЖИЗНЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ (ДЕТСКИЕ И ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ) Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) и Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954), двух великих земляков, имеет множество совпадений: оба учились в мужской классической гимназии г. Ельца и покинули ее, не окончив курса, оба стали писателями и жизнь их завершилась с разницей в два месяца. Если же говорить об их творческой судьбе, то, образно говоря, Иван Бунин — это вынесенный революцией на чужбину чистокровный орловский рысак, сумевший взять главный приз международного литературного дерби — Нобелевскую премию 1933 года. Пришвин же подобно ломовой лошади1 русской культуры десятки лет в условиях большевистского режима тянул нелегкий воз внешне подвластного цензуре писателя, а втайне — духовно свободного летописца, лично свидетельствуя в своем Дневнике о трагических реалиях советского послереволюционного бытия. Бунин всегда с особой гордостью подчеркивал породистость своих семейных корней: «Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, “происхождение коих теряется во мраке времен”. Знаю, что род наш “знатный, хотя и захудалый” и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени»2. Несомненно, гордость за родословную наложила свой отпечаток на восприятие действительности, прямо или косвенно обусловливая мировоззренческий выбор как линии поведения писателя, так и определение путей выхода из многообразных, противоречивых и запутанных ситуаций его во многом драматичного жизненного пути. Пришвин же знатностью своей родословной, идущей от купцов и ремесленников, никогда не гордился и сызмальства понимал, что жизненный путь придется пробивать собственным трудом, который только и может определить настоящую значимость человека среди других людей. 1 Сравнение это представляется вполне уместным, особенно в контексте слов Владимира Маяковского о самом себе, да и о каждом, кто трудится, не покладая рук: «Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». 2 Бунин И.А. Жизнь Арсеньева // Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М., 1996. С. 23.
Для понимания исходных детерминант, которые изначально предопределяли своеобразие отношения к действительности обоих художников, наиболее важным представляется сравнительный анализ «Кащеевой цепи» и «Жизни Арсеньева». Оба писателя работали над этими произведениями многие годы, стараясь в художественной форме не только отобразить своеобразие своего жизненного пути, но и показать как путем усвоения семейного опыта, гимназического и общественного бытия происходит становление личности. Следует отметить, что сопоставительное исследование именно этих романов имеет важное методологическое значение, которое еще не в полной мере нашло свое отражение в пришвиноведении и буниноведении. Речь идет о мировоззренческом контексте «Кащеевой цепи» и «Жизни Арсеньева», над которыми писатели работали в расцвете таланта и в своем самом зрелом возрасте, когда уже во многом определилось характерное своеобразие их творческого метода. Поэтому романное бытие главных героев и многочисленных персонажей этих книг имеет то существеннейшее значение, что с позиций уже сложившегося понимания жизни общества и отношений между людьми оба художника ретроспективно оценивают течение дней своей юности. И здесь возникает вопрос как о достоверности памяти, так и о неизбежных наслоениях на текст позднейших мировоззренческих интерпретаций давних событий. Не случайно в «Кащеевой цепи» автором акцентируется, по сути, герменевтическая проблема исторической изменчивости смысла слов, когда в полемическом диалоге с учителем Розановым гимназисту Курымушке неожиданно приходит мысль: как же получается, что «вдруг самая ходячая фраза явится ему в своем первом смысле, а то обычное значение куда-то скроется»1. Отсюда понятна та методологическая задача, которую ставит перед собой Пришвин: при повествовании о событиях своего детства всячески стараться сохранять верность исторической правде жизни героев, «независимо от горячего текущего времени»2. Очевидной трудностью, с которой сталкивается исследователь «Кащеевой цепи» и «Жизни Арсеньева», является то, что, читая их, мы погружаемся в чрезвычайно насыщенную искусством, религией, политикой и идеологией атмосферу духовной жизни как самих героев, так и всего общества. Поэтому здесь важно адекватно подойти к интерпретации большого количества нюансов текста, смысл и значение которых свойствен той исторической эпохе, в которой жили и творили писатели. Правда, в этой трудности имеется и преимущество: сама временная дистанция ре 1 Пришвин М.М. Кащеева цепь // Собр. соч.: в 8 т. Т. 2. М., 1982. С. 68. 2 Там же. С. 55.
К покупке доступен более свежий выпуск
Перейти