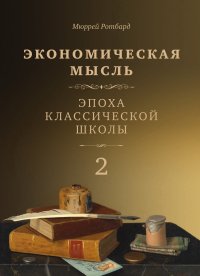Экономическая мысль : в 2 т. Т. 2. Эпоха классической школы
Покупка
Тематика:
История экономики и экономических учений
Издательство:
Социум
Автор:
Ротбард Мюррей
Год издания: 2020
Кол-во страниц: 614
Дополнительно
Мюррей Ротбард представляет экономическую теорию» как поле борьбы между двумя конфликтующими направлениями мысли: одно объясняло цены через взаимодействие субъективных оценок экономических агентов, второе пыталось объяснить цены при помощи издержек, в особенности затрат труда. В первой половине XIX в., которому посвящен второй том, центральное сражение этой борьбы разворачивалось в Великобритании. Автор предлагает новый взгляд на Рикардо, Сэя и их последователей. Неожиданно выглядит роль Джеймса Милля в развитии теорий Рикардо и в организации его школы. Однако после 1820 г. рикардианство почти сошло на нет и пережило возрождение только благодаря Дж. С. Миллю. В книге впервые для обзорного сочинения имеется глава, посвященная англо-ирландской школе теоретиков полезности, представители которой уже в 1820-е гг. стояли на пороге субъективист-ко-маржиналистского прорыва практически во всех разделах экономической науки: в теориях ценности, факторных цен, капитала, процента, ренты. Пять глав отведены анализу генезиса и содержания воззрений Маркса. Особо следует выделить три главы, посвященные всестороннему анализу дискуссии о слитках между денежной и банковской школами и практики регулирования банковского дела. Именно в тот период в результате трагической теоретической ошибки представителей денежной школы окончательно сложилась современная банковская система с частичным резервированием и центральным банком, генерирующая экономические циклы с чередованием бумов и кризисов.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Murray N. Rothbard CLASSICAL ECONOMICS An Austrian Perspective on the History of Economic Thought Volume II Edward Elgar Publishing Ltd.
Мюррей Ротбард ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ Том 2 Эпоха классической школы 2020 Челябинск • Москва СОЦИУМ 2-е издание, электронное
УДК330.8 ББК65.02 Р79 Murray N. Rothbard CLASSICAL ECONOMICS An Austrian Perspective on the History of Economic Thought Volume II © Edward Elgar, 1995 Перевод с английского: Ю. Кузнецов — Введение, Благодарности, гл. 1, Библиографический очерк (9–12); А. Столяров — гл. 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14; В. Зеленов — гл. 3, 10; А. Куряев — гл. 4, Библиографический очерк (1–8); Гр. Сапов — гл. 5, 6, 7 Р79 Ротбард, Мюррей. Экономическая мысль : в 2 т. Т. 2. Эпоха классической школы / М. Ротбард ; пер. с англ. — 2-е изд., эл. — 1 файл pdf : 616 с. — Москва ; Челябинск : Социум, 2020. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный. ISBN 978-5-91603-710-4 ISBN 978-5-91603-711-1 (Т. 2) Мюррей Ротбард представляет экономическую теорию, как поле борьбы между двумя конфликтующими направлениями мысли: одно объясняло цены через взаимодействие субъективных оценок экономических агентов, второе пыталось объяснить цены при помощи издержек, в особенности затрат труда. В первой половине XIX в., которому посвящен второй том, центральное сражение этой борьбы разворачивалось в Великобритании. Автор предлагает новый взгляд на Рикардо, Сэя и их последователей. Неожиданно выглядит роль Джеймса Милля в развитии теорий Рикардо и в организации его школы. Однако после 1820 г. рикардианство почти сошло на нет и пережило возрождение только благодаря Дж. С. Миллю. В книге впервые для обзорного сочинения имеется глава, посвященная англо-ирландской школе теоретиков полезности, представители которой уже в 1820-е гг. стояли на пороге субъективистко-маржиналистского прорыва практически во всех разделах экономической науки: в теориях ценности, факторных цен, капитала, процента, ренты. Пять глав отведены анализу генезиса и содержания воззрений Маркса. Особо следует выделить три главы, посвященные всестороннему анализу дискуссии о слитках между денежной и банковской школами и практики регулирования банковского дела. Именно в тот период в результате трагической теоретической ошибки представителей денежной школы окончательно сложилась современная банковская система с частичным резервированием и центральным банком, генерирующая экономические циклы с чередованием бумов и кризисов. УДК 330.8 ББК 65.02 Ýëåêòðîííîå èçäàíèå íà îñíîâå ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ: Экономическая мысль : в 2 т. Т. 2. Эпоха классической школы / М. Ротбард ; пер. с англ. — Москва ; Челябинск : Социум, 2019. — 616 с. — ISBN 978-5-906401-90-8 ; 978-5-906401-91-5 (Т. 2). — Текст : непосредственный. В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации. ISBN 978-5-91603-710-4 ISBN 978-5-91603-711-1 (Ò. 2) © ООО «ИД «Социум», 2019
ВВЕДЕНИЕ Как гласит подзаголовок этой книги, история экономической мысли рассматривается в ней с откровенно «австрийских» позиций, т.е. с точки зрения приверженца «австрийской школы» в экономической теории. Это единственная такого рода работа, написанная современным австрийцем; более того, за последние десятилетия на эту тему австрийцами опубликовано лишь несколько монографий, посвященных специальным областям истории идей1. Кроме того, взгляд, представленный в этой книге, основан на наименее модном в настоящий момент, но при этом далеко не самом малораспространенном варианте австрийской школы — «мизесианском», или «праксеологическом»2. При этом австрийский характер этой работы — не единственная ее особенность. Когда автор в 1940‑х гг. начинал изучать экономическую теорию, в исследовании истории экономической мысли полностью господствовала та же парадигма, которая преобладает и сегодня, хотя и не так явно, как тогда. Фактически она описывает суть истории экономической мысли как список «великих людей», среди которых выделяется почти что основатель этой науки, почти сверхчеловек Адам Смит. Но если Смит был творцом как экономического анализа, так и доктрины свободной торговли, т.е. традиции поддержки свободного рынка в политической экономии, то из этого следует, что ставить под сомнение его предполагаемые достижения есть мелочность и пошлость. Любая жесткая критика Смита как экономиста и как поборника свободного рынка представлялась анахронизмом: глядя на первооткрывателя и основателя с высоты сегодняшнего уровня знаний жалкие последователи несправедливо порицают гиганта, на плечах которого все мы стоим. Если Адам Смит создал экономическую теорию, подобно тому как Зевс создал Афину, вышедшую из его головы сразу взрослой и в полном вооружении, то его предшественники были просто фоном — мелкими и ничего не значащими персонажами. Поэтому в классических изложениях истории экономической мысли уделялось очень мало внимания тем, кому не повезло быть предшественником Смита. Как правило, их относили к одной из двух категорий, а затем объявляли не имеющими никакого значения. Непосредственными предшественниками Смита были меркантилисты, которых он резко критиковал. Меркантилисты были просто дурачками, убеждавшими людей накапливать деньги, а не тратить их, 1 На полях под чертой указано начало страницы по английскому оригиналу. См. указатель. Вставки в квадратных скобках принадлежат М. Ротбарду, вставки в угловых скобках — переводчикам и издательству. vii*
Введение 2 или настаивавшими на том, что торговля с каждой страной должна быть «сбалансированной». От схоластов отмахивались еще более бесцеремонно, объявляя их невежественными средневековыми моралистами, неизменно настаивавшими на том, что «справедливая» цена должна покрывать купцу издержки производства с добавлением разумной прибыли. Затем классические работы 1930—1940‑х гг. по истории экономической мысли переходили к изложению и преимущественно прославлению достижений нескольких выдающихся фигур после Смита. Рикардо систематизировал Смита и был доминирующей фигурой в экономической теории до 1870‑х гг.; затем «маржиналисты» Джевонс, Менгер и Вальрас слегка подкорректировали «классическую экономическую теорию» Смита—Рикардо, подчеркнув важность отдельной дополнительной единицы блага в отличие от целых классов благ. Затем рассказ переходил к Альфреду Маршаллу, мудро интегрировавшему рикардианскую теорию издержек в якобы односторонний подход австрийцев и Джевонса, делавших упор на спрос и полезность, что привело к созданию современной неоклассической экономической теории. Невозможно было проигнорировать и Карла Маркса, который трактовался в соответствующей главе как путаный последователь Рикардо. В результате историк мог состряпать свой рассказ, ограничившись четырьмя‑пятью «крупными фигурами», каждая из которых, за исключением Маркса, добавила несколько новых строительных блоков в здание непрерывного прогресса экономической науки, история которого, по существу, представлялась как движение вперед и вверх, к свету3. Разумеется, после Второй мировой войны в пантеон был включен Кейнс, составивший новую кульминационную главу в развитии и прогрессе науки. Кейнс, любимый ученик великого Маршалла, понял, что старик упустил из виду то, что позднее было названо «макроэкономикой», так как делал упор исключительно на микроэкономику. И Кейнс добавил макроэкономику, сосредоточившись на изучении и объяснении безработицы — феномена, который все его предшественники почему‑то не включали в общую экономической картину или отметали, легкомысленно вводя для своего удобства «предположение о полной занятости». С тех пор господствующая парадигма оставалась в основном неизменной, хотя в последнее время небо на горизонте стало заволакиваться тучами. Прежде всего такого рода история непрерывного движения вверх благодаря «великим людям» требует периодического добавления новых последних глав. «Общая теория занятости, процента и денег» Кейнса была опубликована в 1936 г., т.е. сегодня это работа уже почти шестидесятилетней давности. За это время не мог не появиться новый «великий человек», вписавший последнюю главу. Но кто это? Какое‑то время на эту роль претендовал Шумпетер с его современным и вроде бы реалистическим акцентом на «инновациях». Но это направление с треском провалилось — возможно, из‑за понимания того простого факта, что фундаментальная работа Шумпетера (или «ви`дение», как он сам ее проницательно viii
Введение 3 назвал) была написана за два десятилетия до «Общей теории». С 1950‑х гг. наступил темный период; возвращение же к некогда забытому Вальрасу трудно впихнуть в прокрустово ложе непрерывного прогресса. Моя собственная точка зрения о глубокой порочности подхода, основанного на концепции «нескольких великих людей», сформировалась во многом под влиянием работ двух блестящих исследователей интеллектуальной истории. Один из них — Джозеф Дорфман, мой научный руководитель во время написания докторской диссертации, чей уникальный многотомный труд по истории американской экономической мысли убедительно продемонстрировал, насколько важную роль в развитии идей играют «менее значительные» фигуры. Во‑первых, не учитывать эти фигуры — значит упускать из виду саму ткань истории, и если отобрать несколько разрозненных текстов, из которых состоит История Идей (с большой буквы), и трястись над ними, то история таким образом оказывается сфальсифицированной. Во‑вторых, многие якобы второстепенные лица внесли значительный вклад в развитие идей, причем в ряде случае больший, чем вклад горстки выдающихся мыслителей. Таким образом, важные аспекты экономической мысли оказываются опущены, и получающаяся в конце концов теория оказывается мелкотравчатой, выхолощенной и безжизненной. Более того, при подходе, основанном на выделении «немногих великих людей», игнорируется диалогичность самой истории, контекст идей и движений, то, как люди влияли и реагировали друг на друга. Самой наглядной демонстрацией этого аспекта работы историка для меня стал двухтомный труд Квентина Скиннера «Истоки современной политической мысли», значение которого можно по достоинству оценить и не разделяя бихевиористской методологии автора4. Для меня — как, вероятно, и для всех — идея непрерывного прогресса науки, ее движения «вперед и вверх» была полностью опровергнута знаменитой книгой Томаса Куна «Структура научных революций»5. Ее автор уделил ноль внимания экономической науке, вместо этого сосредоточившись на таких неизменно «точных» науках, как физика, химия и астрономия, что является стандартной практикой у философов и историков науки. Введя в интеллектуальный дискурс слово «парадигма», Кун разрушил то, что я предпочитаю называть «виговской теорией истории науки». Эта теория, которую разделяют почти все историки науки, в том числе экономической, состоит в том, что научная мысль развивается постепенно, год за годом, путем разработки, тщательного анализа и проверки теорий, и таким образом наука движется вперед и вверх, с каждым годом, десятилетием и поколением узнавая больше и получая все более правильные научные теории. Подобно стороннику виговской теории истории, придуманной в Англии в XIX в., согласно которой положение дел постоянно улучшается (и поэтому не может не улучшаться), адепт виговской теории истории науки явно или неявно утверждает (на первый взгляд с бóльшим основанием, чем обычный виг‑историк), что ix
Введение 4 в любой отдельной научной дисциплине «более позднее, всегда лучше более раннего». Независимо от того, занимается ли он историей науки или историей вообще, он, по сути, утверждает, что в любой момент исторического времени «то, что фактически имело место, и было правильным» или, по крайней мере, оно было лучше, чем «то, что было раньше». Неизбежным результатом становится самодовольный оптимизм в духе доктора Панглосса, который не может не вызывать острого раздражения. В историографии экономической мысли следствием такой позиции становится твердая, хотя и не выраженная явно точка зрения, что каждый отдельный экономист или по крайней мере каждая экономическая школа внесла свою важную лепту в неизбежное движение вверх. Поэтому неоткуда взяться крупной системной ошибке, которая сделала бы глубоко ущербной или даже несостоятельной целую школу экономической мысли, не говоря уж о том, чтобы завести в тупик всю экономическую науку в целом. Однако Кун потряс мир философии, продемонстрировав, что наука развивается совсем не так. После того как центральная парадигма выбрана, никто не занимается ни проверкой, ни отсеиванием, а попытки проверить базовые посылки предпринимаются лишь тогда, когда серия провалов и аномалий в господствующей парадигме ввергает науку в «состояние кризиса». Совершенно не нужно принимать нигилистический философский подход Куна — подразумевающий, что ни одна парадигма не является и не может быть лучшей, чем другая, — чтобы понять, что его не столь прекраснодушный взгляд на науку выглядит правдоподобным и с исторической, и с социологической точки зрения. Но если стандартное романтическое, или оптимистическое, представление не работает в случае строгих наук, то тем более оно не может не быть полностью неадекватным применительно к таким «нестрогим наукам», как экономика — дисциплина, в которой невозможна лабораторная экспериментальная проверка и где на экономические представления человека оказывают влияние многочисленные еще менее строгие дисциплины, такие как политика, религия и этика. Поэтому для экономической науки не может быть действительной никакая презумпция о том, что более поздние идеи лучше, чем более ранние, или что все знаменитые экономисты внесли заметную лепту в развитие этой дисциплины. Нельзя ведь утверждать, что каждый из них поучаствовал в возведении некоего постоянно растущего здания, — представляется более вероятным, что экономическая теория развивалась конфликтным, зигзагообразным образом, когда более поздняя системная ошибка порой вытесняла прежние, но более адекватные парадигмы, направляя тем самым экономическую мысль по совершенно ошибочному, а возможно, и трагическому пути. В последние годы экономическая теория, находящаяся под доминирующим влиянием формализма, позитивизма и эконометрики и выставляющая себя в качестве строгой науки, не проявляет особого интереса x
Введение 5 к своему прошлому. Она сосредоточена, как и всякая «настоящая» наука, на только что вышедшей журнальной статье или новейшем учебнике, а не на исследовании собственной истории. Ведь не тратят же современные физики много времени на обдумывание оптики XVIII века! Однако в последние одно‑два десятилетия доминирующая парадигма вальрасианско‑кейнсианского неоклассического формализма все больше ставится под сомнение, и в различных отраслях экономической теории складывается действительно «кризисное состояние» в куновском смысле, включающее озабоченность по поводу ее методологии. В этой ситуации изучение истории экономической мысли вновь серьезно заявляет о себе, и мы надеемся и ожидаем, что в ближайшие годы оно будет расширяться6. Ибо если знание, похороненное вместе с утерянными парадигмами, может исчезнуть и быть забыто с течением времени, то из этого следует, что можно заниматься изучением экономистов и теоретических школ прошлого не только из интереса к старине и не только для того чтобы узнать, как протекала интеллектуальная жизнь в прежние времена. Старых экономистов можно изучать ради их важного вклада в то знание, которое сегодня забыто и уже в силу этого является новым. Важные истины, относящиеся к содержанию экономической теории, могут быть извлечены не только из новейших журнальных выпусков, но и из текстов давно умерших экономических мыслителей. Но все это лишь методологические обобщения. Конкретное понимание того, что важное экономическое знание с течением времени было утеряно, пришло ко мне в результате освоения того великого пересмотра трактовки схоластики, который произошел в 1950—1960‑х гг. Кардинальным прорывом в этом ревизионистском направлении стала великая работа Шумпетера «История экономического анализа», а развитие он получил в трудах Раймонда де Рувера, Марджори Грайс‑Хатчинсон и Джона Нунана. Оказалось, что схоласты были не просто «средневековыми» — это направление, зародившееся в XIII в., развивалось и процветало вплоть до XVI—XVII вв. Схоласты вовсе не были моралистами, объяснявшими цену издержками производства, а считали, что справедливая цена — это та цена, которая установилась на основе «общей оценки» свободного рынка. Но и это не всё: они не только не были сторонниками наивной теории ценности, объясняющей последнюю затратами труда или издержками производства, но их можно рассматривать как «протоавстрийцев», создавших тщательно разработанную теорию ценности и цен, основанную на субъективной полезности. Кроме того, некоторые из схоластов намного превосходили современную формалистическую микроэкономику тем, что развили «протоавстрийскую» динамическую теорию предпринимательства. Наконец, в сфере «макроэкономики» схоласты, начиная с Буридана и заканчивая кульминацией развития этого направления, которой стали испанские схоластические авторы XVI в., построили «австрийскую», а не монетаристскую теорию денег и цен, основанную на понятиях спроса и предложения и включающую в себя такие разделы, xi
Введение 6 как межрегиональные денежные потоки и даже теория паритета покупательной способности, объясняющая обменные курсы валют. По‑видимому, не случайно, что толчком к этому коренному пересмотру представлений о схоластике для американских экономистов (к числу достоинств которых обычно не относится владение латинским языком) стали работы экономистов, получивших образование в Европе и поднаторевших в латыни — языке, на котором писали схоласты. Этот простой факт обращает наше внимание еще на одну причину утери знания в современном мире: изолированность в рамках собственного языка (особенно остро дающая о себе знать в англоязычных странах), которая со времен Реформации разорвала на части некогда единое общеевропейское сообщество ученых. Одно из объяснений того, почему континентальная экономическая мысль зачастую оказывала лишь минимальное влияние на Англию и США или, в лучшем случае, оказывала его с большим опозданием, заключается просто‑напросто в том, что европейские работы не переводились на английский язык7. Для меня воздействие исторического ревизионизма в отношении схоластики дополнялось и усиливалось создававшимися в те же десятилетия работами Эмиля Каудера, «австрийского» историка экономических идей, родившегося в Германии. Он обнаружил, что доминировавшая в XVII и особенно в XVIII в. во Франции и Италии экономическая мысль тоже была «протоавстрийской», делавшей упор на субъективную полезность и относительную редкость как на детерминанты ценности. Отталкиваясь от этой подготовительной работы, Каудер пришел к удивительному прозрению в отношении Адама Смита, которое тем не менее прямо вытекало из его собственных результатов и из трудов ревизионистских историков схоластики: Адам Смит не только не был основателем экономической теории, но и сыграл фактически противоположную роль. В действительности он получил от предшественников почти полностью разработанную, протоавстрийскую традицию теории субъективной ценности и, к величайшему прискорбию, направил экономическую теорию по ложному пути, заведшему ее в тупик, из которого австрийцам пришлось ее вытаскивать столетие спустя. Смит отбросил субъективную ценность, предпринимательство и акцент на рыночной активности и реальном формировании рыночных цен и заменил все это трудовой теорией ценности, а основное внимание сосредоточил на неизменном долгосрочном равновесии при «естественной цене», т.е. на мире, в котором предпринимательство отсутствует по определению. Усилиями Рикардо это трагическое смещение фокуса было усилено и приобрело форму законченной системы. Смит не был не только создателем экономической теории, но и основателем традиции laissez faire в политической экономии. Не только схоласты анализировали свободный рынок, верили в него и критиковали государственное вмешательство; французские и итальянские экономисты XVIII в. были более ориентированы на laissez faire, чем Смит, разбавив