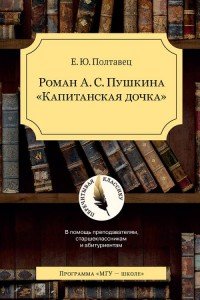Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам
Покупка
Тематика:
Гуманитарные дисциплины. Школа
Автор:
Полтавец Елена Юрьевна
Год издания: 2018
Кол-во страниц: 170
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
Среднее общее образование
ISBN: 978-5-19-011236-8
Артикул: 704634.02.99
Данная книга являет собой новое прочтение произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Известный литературовед Ю.М. Лотман справедливо заметил: «С "Капитанской дочкой" происходит то же, что произошло с такими произведениями, как "Дон Кихот" Сервантеса: потому, что роман слишком серьезен даже для взрослого читателя, его перевели в разряд книг для детей».
Пособие адресовано старшеклассникам, абитуриентам, студентам, преподавателям.
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Е. Ю. Полтавец РОМАН А. С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам ИМ -е издание, исправленное и дополненное
УДК 82 ББК 82.3(2Рос-Рус)6 П49 Печатается по постановлению Редакционго-издательского совета Московского университета ISBN 978-5-19-011236-8 © Издательство Московского университета, 2018 Полтавец Е.Ю. П49 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. 2-е изд., испр. и доп. / Е.Ю. Полтавец. — М.: Издательство Московского университета, 2018. — 168 с. — (Перечитыавя классику). ISBN 978-5-19-011236-8 Данная книга являет собой новое прочтение произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Известный литературовед Ю.М. Лотман справедливо заметил: «C “Капитанской дочкой” происходит то же, что произошло с такими произведениями, как “Дон Кихот” Сервантеса: потому, что роман слишком серьезен даже для взрослого читателя, его перевели в разряд книг для детей». Пособие адресовано старшеклассникам, абитуриентам, студентам, пре подавателям. УДК 82 ББК 82.3(2Рос-Рус)6
Глава первая Жанровый код «Капитанской дочки» и размышления о том, кто кому вожатый «Капитанскую дочку» многие представляют историческим романом и вообще отнюдь не самым сложным пушкинским произведением, которое читали в детстве и «проходили» в не самых старших классах. Это не так уж и плохо: без первого уровня понимания, нет, наверное, и последующих. Но сначала выясним, что такое «код». В литературоведении под кодом понимают «не шифр и не тайнопись, но учет некоей авторитетной традиции, диктующей систему значений» (1). Коды могут быть весьма различными. Так, в литературоведческом словаре говорится: «Читательское восприятие нередко основывается на «кодах» и предполагает разгадывание различных «кодов» произведения: интертекстуальных, аллюзионных, анаграммно-каламбурных и т.д.» (2). Но прежде всего и литературовед, и неискушенный читатель пытается определить жанровый код произведения (литературовед применит специальные критерии и терминологию, обычный читатель будет стараться соотнести новинку с известными ему образцами и примерами). Хорошо сказал об этом Г.Д. Гачев: «Основной и первый ход, который делает наше мышление, когда оно сталкивается с чем-то новым (вещью, мыслью и т.д.), состоит в том, чтобы определить его порядок, жанр, структуру — соотнести с устойчивыми рубриками нашего поведения и сознания (“ну, на что это похоже!”)» (3). Если, например, события и исторические лица, описанные на страницах произведения, отодвинуты в прошлое от момента написания этого произведения, то такой роман, повесть, драму и т. д. читатели, как правило, называют историческими, не особенно
задумываясь, какой именно временной промежуток нужен, чтобы произведение воспринималось как историческое, и какова должна быть степень достоверности изображенного (почему-то многие исследователи считают, что оптимальный срок составляет 60 лет; таков он, например, для «Капитанской дочки», некоторых романов Вальтера Скотта; подробнее см. Приложение). Еще сложнее с «исторически правдивым изображением». Романы А. Дюма-отца, например, зачисляют не в исторические, а в авантюрные, потому что этот писатель не ставил перед собой задачу изобразить исторических деятелей с достоверно присущими им историческими чертами. Однако все ведь понимают, что исторический романист и ученый-историк не «близнецы-братья», несмотря на то, что муза истории Клио — родная сестра муз, заведующих разными искусствами. Но с этой точки зрения бросается в глаза и почти всеми исследователями отмечаемое несоответствие между наличием некоторых привлекательных черт у Пугачева «Капитанской дочки» и полным отсутствием таковых у Пугачева написанной Пушкиным же на строгой документальной основе «Истории Пугачева». Лишена в «Капитанской дочке» исторически достоверных черт и Екатерина, лишь ненадолго, в качестве сказочной доброй феи, появляющаяся в финале. Современные исследователи выделяют довольно значительное число критериев отнесения произведений художественной литературы к историческому жанру. Важное место среди этих критериев отводится историчности как «отображению исторических событий и деятелей, но необязательно в качестве главных героев» (4), а также «собственно исторической проблематике — подчеркнутому интересу художника именно к данным историческим лицам и событиям» (5). Историческая художественная проза Пушкина чаще всего сопоставлялась с романами Вальтера Скотта, который считается отцом исторического романа. Это работы Д.П. Якубовича, С.Л. Абрамович, В.М. Марковича, М.Г. Альтшуллера и других исследователей. Может быть, в целом это сопоставление верно по отношению к незаконченному роману Пушкина «Арап Петра Великого», но «Капитанская дочка», несмотря на бросающееся в глаза фабульное сходство с такими произведениями В. Скотта, как «Айвенго», «Роб Рой», «Эдинбургская темница», не может быть целиком отнесена к романам «вальтерскоттовского типа». В сущности, как ни парадоксально это звучит, в «Капитанской дочке» нет «собственно исторической проблематики». Не говоря уж о весьма своеобраз
ной трактовке исторических лиц, вряд ли можно утверждать, что главным в этом романе является «подчеркнутый интерес» именно к Пугачеву и пугачевщине. «Как же так, — возмутится читатель-отличник, усвоивший в школе, что «Капитанская дочка» — роман о крестьянской войне под предводительством Пугачева, — ведь Пушкин с симпатией рисует выдающегося борца за народное счастье против крепостнического строя…». Но давайте спросим отличника, какие именно строки романа рисуют Пугачева как борца именно за народное счастье (тут ему нечего будет ответить, потому что таких строк в романе нет). А еще спросим, в чем именно выражается эта симпатия (иногда не только школьники, но и солидные пушкинисты говорят не просто о симпатии, но даже о восторге, «зачарованности» и т. д.). Ответ отличника будет примерно таким: «Пугачев спасает главному герою жизнь (вариант: “Пугачев — главный герой”) во время метели, позже милует его под виселицей, отпускает Машу, рассказывает калмыцкую сказку о стремлении к свободе, он героичен, поэтичен» и т. д. Не будем выставлять контраргументы вроде того, что по приказу Пугачева не спасают, а убивают Мироновых, Ивана Игнатьича и Лизавету Харлову. Лучше подумаем, кто кого спасает, милует, отпускает и вообще кто из героев этого романа стремится к свободе и к какой именно. Вспомним сюжетные перипетии и знаменитые встречи Гринева и Пугачева. «Вожатый» указал путь к постоялому двору вовсе не из жалости к заблудившимся, а потому, что и сам не собирался замерзать в степи и изображать Ивана Сусанина. Отдавая тулуп, Гринев считает, что Пугачеву легче принять подарок под видом благодарности за помощь, но читатель все-таки должен помнить, как было дело. «Вожатым», кстати, оказывается не только Пугачев, но и Гринев. Эпиграф о занесенном на «незнакомую сторону» добром молодце относится к Гриневу (Пугачев же говорит: «Сторона мне знакомая»). Но впереди у Пугачева другая «незнакомая сторона» — иной мир, и, как хорошо сказала О.Я. Поволоцкая, «Пугачев,… уже сознающий свою обреченность, оставляет о себе молитвенников; ему, закоренелому злодею, не могущему рассчитывать ни на чью милость, забрезжил свет Надежды» (6). Здесь имеется в виду обещание Гринева и Маши молиться за Пугачева, данное при окончательном расставании. Да и каждая встреча с Гриневым заставляла Пугачева открыть новое для себя в человеческих взаимоотношениях.
Совсем уж нелепо считать, что Пугачев спасает Гринева, не повесив его после взятия крепости, или спасает Машу, освободив ее (от кого, интересно, спасает? От себя самого? Вот себя он спасает, не взяв лишний грех на душу, это точно). А если благодарить Пугачева за «спасение» Гринева, то почему бы не поблагодарить и Швабрина за «спасение» Маши: он не отдал ее на растерзание и довольно долго скрывал, что она дочь капитана. По такой логике можно дойти до благодарности любому бандиту. Но были ли какие-то добрые поступки у Пугачева? Нормальный читатель, не утративший еще собственного «вожатого» в глубине души, понимает: Пугачев оказался способен подумать о том, что Гриневу трудно будет добраться до Оренбурга, послал ему шубу, лошадь, полтину. Но это тоже, в общем, не бог весть какая самоотверженность, просто — ответный подарок. Вернемся к проблеме жанра. Романы не пишутся о пугачевщине, петровских реформах, пуританах, гонениях на протестантов или политике Ришелье как таковых. Роман (а не научный труд историка) пишется о Гриневе, Айвенго, Бернаре де Мержи, друзьях-мушкетерах, словом, о частной жизни вымышленных персонажей, пусть и на более или менее тщательно выписанном фоне истории. Долгое время наше литературоведение допускало довольно сильный перекос в сторону пугачевской тематики «Капитанской дочки», и из-за этого «пугачевоцентризма» роман Пушкина стал казаться каким-то приложением к «Истории Пугачева», апологетическим по отношению к Пугачеву и вообще всему бунту. В классическом историческом романе, например В.Скотта, в центре находится вымышленный герой, как и в «Капитанской дочке», но пером автора движет и интерес к конкретной исторической эпохе. Поэтому большую роль в «вальтерскоттовском романе» играют многословные и тщательные описания (нравов, обычаев, интерьеров), предисловия, пояснения и т. д. Словом, стремление к историчности. У Пушкина в «Капитанской дочке» вроде бы все так, да не так. Исторические справки и описания суперлаконичны. Исторические лица больше похожи на сказочных героев и подчеркнуто соответствуют архетипам, а не исторической «достоверности». Думаете, что Хлопуша и Белобородов обрисованы достоверно и их образы отвечают «замыслу Пушкина — подробно рассказать о вождях восстания» (7)? Пушкин сознательно идет здесь даже наперекор историческим фактам (Белобородов в Берде с Пугаче
вым не встречался), зато создает образ доброго великана и злого бородатого карлика (см. поэму «Руслан и Людмила»). Думаете, шитье, которым занята Маша, или нанизывание грибов Иваном Игнатьичем отвечают замыслу Пушкина обрисовать тихую жизнь в захолустье? А может быть, это отголоски мифологического мотива прядения нити судьбы? А лубочные картинки в домике коменданта, одна из которых («Взятие Кистрина») никогда не могла существовать «ввиду простой причины — невзятия этой прусской крепости» (8), и Пушкину это было прекрасно известно! Вяземский в свое время упрекал Пушкина в неправдоподобии отдельных деталей (в письме с отзывом о романе): «Кажется, зимою у тебя река где-то не замерзла, а темнеет в берегах, покрытых снегом. Оно бывает с начала, но у тебя чуть ли не посреди зимы» (9). Собственно говоря, Гринев подъезжает к крепости осенью, а не «посреди зимы», чего не учел Вяземский, но Пушкин подчеркнуто не сосредоточен на правдоподобии в этом романе. Интересно другое: любимые герои Пушкина во сне (как Татьяна) или наяву (как Гринев) видят именно зимний незамерзающий поток, «поток, не скованный зимой», как сказано в «Евгении Онегине». И мы прекрасно понимаем, что дело здесь не в точности обрисовки исторической местности, а в символической функции реки вечности, разделяющей жизнь и смерть, и с этой минуты путь Гринева и даже Татьяны в ее сне превратился в жизненный путь, а детство и отчий дом (даже для Татьяны) остались позади, впереди же — затерянная в холодных просторах избушка или крепость, хозяевами которой в один не прекрасный момент могут оказаться и монстры, и бесы, устроившие чуму для всех, а одновременно еще и пир — для себя… То же архетипическое значение приобретает и вымышленное название Белогорской крепости, и даже название романа (почему дочка именно капитана — не майора, не коллежского советника?) Слово «капитан» восходит к лат. caput («голова»); капитанская дочка — это «дочь головы». Мотив головы, представляющий собой один из важнейших мотивов пушкинского творчества, имплицитно, но весьма устойчиво представлен и в «Капитанской дочке» (об этом см. главу 2). Даже подарок Гринева Пугачеву (знаменитый «заячий тулупчик») — не случайная деталь, а сказочномифологический мотив дарения шубы, встречающийся и в других произведениях Пушкина, на что указывают многие исследователи (10). Сам же этот обычай дарения можно рассмотреть в свете еще более общих инициационных мотивов.
Но главное — Пушкина «Капитанской дочки» интересовала не столько история, сколько метаистория, не столько сама пугачевщина, сколько «русский бунт» вообще (и не обязательно в форме вооруженного восстания, но и в форме безверия), не столько судьба дворянства или крестьянства, сколько судьба поэта, и не столько жанр исторического романа (хотя тем, кто хотел услышать о его состязании с Вальтером Скоттом, Пушкин так дело и представил: в известном разговоре с П.В.Нащокиным) (11), сколько жанр апостольского послания, например послания Петра (Евангелие тоже можно назвать мемуарами о Христе, апостоле Петре и других выдающихся личностях). Главного героя у Пушкина тоже зовут Петром, и излишне, наверное, напоминать, какие ассоциации с русской историей вызывает это имя. Может быть, «Капитанская дочка» развивает не пугачевскую, а петровскую тему наряду с «Полтавой», «Арапом…», «Медным Всадником» и началом работы над историей Петра — в самом широком смысле слова: Пугачев выдает себя за Петра III, встречается с Петром Гриневым, а Петр Гринев оставляет потомкам свое послание, т.е. послание Петра, в котором предлагает свои, петровские реформы — «распространение правил человеколюбия» и «улучшение нравов» ( Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1962–1966. Т.VI. С. 455–456. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы). На наш взгляд, давно пора поменять код — рассмотреть «Капитанскую дочку» не на фоне истории и исторического романа, а на фоне пушкинской историософии и религиозных исканий, предпринятых Пушкиным незадолго до кончины, в том числе и религиозных исканий в новых литературных жанрах. А о том, что эти искания имели место, свидетельствуют и «Отцы пустынники и жены непорочны» (молитва), и «Мирская власть» (ставрофеотокион, или «крестобогородичен, по М.Ф. Мурьянову (12), да и весь «каменноостровский цикл». Между прочим, жанровый фон «Капитанской дочки» пытались сопоставить с совсем другой литературной традицией: пародиями на рыцарские и исторические романы. Исследователи улавливали некоторое несходство «Капитанской дочки» с традиционным историческим романом и приходили к парадоксальному, но по-своему логичному выводу: это пародия на сюжетные клише романов Скотта, а Гринев — комический персонаж. Не совсем понятным остается, правда, к какому жанру отнести ужасающие сцены разгрома крепости пугачевцами. Примерно такой подход
к пушкинскому роману развивает в своей работе Пол Дебрецени, останавливаясь, однако, в недоумении перед сценой казни Мироновых (13). Это напоминает высказанные еще ранее американским исследователем Г.Морсоном идеи о том, что «Война и мир» Л.Толстого является пародией на исторический роман. Но если Толстой пародирует порой стиль официальных донесений или наполеоновских и александровских историков, то это еще не значит, что жанр пародии распространяется на всю книгу. «Капитанская дочка» тоже не может быть ограничена рамками исторического романа, но и не является, конечно, пародийным жанром. Итак, «для любого художественно-исторического произведения принципиально важно, что оно о Петре I, или Суворове, или Дмитрии Донском и о реальных событиях, с ними связанных», — пишет С.И. Кормилов (14), указывая, что в «Моцарте и Сальери» Пушкина, к примеру, важна не историческая, а нравственнофилософская проблематика, потому-то эта маленькая трагедия не относится к историческому жанру. На наш взгляд, не совсем относится к нему и «Капитанская дочка», нравственно-религиозная и историософская проблематика которой в советском литературоведении почти не принималась во внимание в связи с выпячиванием темы пресловутой классовой борьбы. С началом перестройки возродились споры, начатые еще в критике ХIХ века, о жанре «Капитанской дочки», о том, «какие события являются главным предметом изображения» (15) — семейная хроника или история бунта. И до сих пор некоторым кажется, что тема семьи как-то «ниже», чем «серьезная историческая проблематика», поэтому они, беспокоясь об «имидже» «Капитанской дочки» на фоне мирового исторического романа, призывают считать ее произведением о Пугачеве. А ведь в «Капитанской дочке» с ее эпиграфом — заветом отца и почти молитвенным началом («Отец мой…» как «Отче наш») и тема семьи решается как архетипическая: это и тема Авраама и Исаака, и блудного сына (а Петр Гринев оказывается на самом деле не блудным, а верным), и почти весь сюжет соотносится с евангельским. Отец посылает сына на жертву, на тяжелые испытания, и только после них достигается гармония. В пушкинистике не раз высказывались вслед за американским исследователем Сергеем Давыдовым (S. Davydov) чрезвычайно плодотворные предложения рассматривать т. н. «каменноостровский цикл», работа над которым шла параллельно с завершением романа, как пасхальный. С.А. Фомичев считает, что «камен
ноостровский цикл», т.е. ряд несомненно объединенных стилем и темой последних стихотворений Пушкина, написанных летом 1936 года на даче на Каменном острове, имеет «сквозной сюжет, связанный с событиями Страстной недели Великого поста» (16). Не такова ли и скрытая «проблематика» «Капитанской дочки», в сюжете которой есть и предначертание Отца Сыну, и своеобразное Гефсиманское моление — сон Гринева во время бурана о возвращении домой, страхе перед отцом и ложном отце — предводителе бесов (в Евангелии этот эпизод также связан со сном и минутами слабости апостолов, ослушавшихся Учителя). Далее следует аналог Голгофы — сцена казни защитников крепости, аналог тайной вечери (пир пугачевцев в Белогорской крепости) и знаменитые диалоги Гринева с Пугачевым, восходящие, конечно, к диалогу Христа с одним из распятых около него разбойников. «Тема Благоразумного разбойника, звучащая то громче, то тише, сопровождает все диалоги Пугачева и Гринева. Гринев самим фактом своего общения с Пугачевым как бы постоянно приглашает последнего покаяться», — считает В.Н. Катасонов (17). Говоря о сходстве идей «Капитанской дочки» с «каменноостровскими», нельзя не упомянуть о прочтении знаменитого стихотворения этого цикла «(Из Пиндемонти)» епископом Антонием (Храповицким): «Внешний административный строй жизни, тот правовой порядок, который туманит головы многих наших современников, был чужд пушкинских стремлений. Как публицист, он не мог не замечать и этой видимой стороны жизни, но она интересовала его только с нравственной точки зрения… Пушкин … вполне определенно указывает на второстепенное значение правового порядка и на первостепенное значение нравственного начала. Не дорого ценю я громкие права…» (18). Далее цитируется все стихотворение. В работах современных исследователей высказываются мысли о том, что в стихотворениях цикла звучит «неприятие мирской власти» (В.Э.Вацуро). Епископ Антоний выразился, пожалуй, точнее, но интересно отметить и совпадение этого неприятия «мирской власти» (в одноименном стихотворении и во всем цикле) с неприятием суда в главе «Суд» «Капитанской дочки». Достаточно вспомнить пословицу-эпиграф к этой главе: «Мирская молва — морская волна». Мирское, расхожее представление о суде, присяге, справедливости, единое для «молвы», «общественного мнения» и официально-государственного мнения, провозглашенного «мир