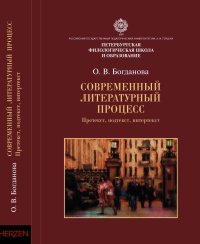Современный литературный процесс: претекст, подтекст, интертекст
Покупка
Тематика:
Теория литературы
Автор:
Богданова Ольга Владимировна
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 471
Дополнительно
Вид издания:
Сборник
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-8064-2729-9
Артикул: 745265.01.99
Сборник научных статей О. В. Богдановой продолжает серию «Петербургская филологическая школа и образование», посвященную проблемам развития русской литературы XIX-XXI веков и вопросам восприятия художественного творчества отечественных писателей. На материале известных текстов современной литературы намечаются самобытные черты разножанровых произведений Л. Петрушевской, Т. Толстой, С. Довлатова, В. Пелевина, В. Сорокина и выявляются линии взаимодействий между текстами-предшественниками и текстами-последователями, обрисовываются смыслопорождаю-щие претекстуальные и интертекстуальные связи-переклички.
Издание рекомендуется как научный и учебный материал для специалистов -литературоведов, педагогов-методистов, учителей-славистов средней и высшей школы, магистрантов и аспирантов гуманитарных вузов (специальность «021700 — Филология»).
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена О. В. Богданова СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕТЕКСТ, ПОДТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ Санкт-Петербург Издательство РГПУ им. А. И. Герцена 2019
УДК 821.161.1''18/19'' ББК 83.3(2РОС=РУС) Б 73 Научные рецензенты: д-р филол. наук, проф. Т. Т. Давыдова (Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета); канд. филол. наук, доц. И. А. Митрофанова (Санкт-Петербургский государственный университет) Богданова О. В. Б 73 Современный литературный процесс: претекст, подтекст, интертекст. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 471 с. [Сер. «Петербургская филологическая школа и образование»] ISBN 978–5–8064–2729–9 Сборник научных статей О. В. Богдановой продолжает серию «Петербургская филологическая школа и образование», посвященную проблемам развития русской литературы ХIХ–ХХI веков и вопросам восприятия художественного творчества отечественных писателей. На материале известных текстов современной литературы намечаются самобыт ные черты разножанровых произведений Л. Петрушевской, Т. Толстой, С. Довлатова, В. Пелевина, В. Сорокина и выявляются линии взаимодействий между текстамипредшественниками и текстами-последователями, обрисовываются смыслопорождающие претекстуальные и интертекстуальные связи-переклички. Издание рекомендуется как научный и учебный материал для специалистов литературоведов, педагогов-методистов, учителей-славистов средней и высшей школы, магистрантов и аспирантов гуманитарных вузов (специальность «021700 — Филология»). ISBN 978–5–8064–2729–9 УДК 821.161.1''18/19'' ББК 83.3(2РОС=РУС) © О. В. Богданова, 2019 © С. В. Лебединский, дизайн обложки, 2019 © Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2019
I
ПОЭТИКА «МРАКА» В ПРОЗЕ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ Уже в самом начале творческого пути Людмилы Петрушевской критика говорила о том, что ее произведения «слишком мрачные» и что с ее «черным», «жестоким», «мужским» талантом ей следует писать о жертвах культа, о периодах репрессий, о тирании и ее исполнителях (тема, к которой Петрушевская обратится в 1989 году, написав для МХАТ пьесу «Московский хор»). Петрушевская же писала о современной жизни, и основная масса ее произведений действительно была «мрачна» и «тяжела» по своему содержанию: «Грипп» — о самоубийстве, «Бессмертная любовь» — о помешательстве, «Дочь Ксении» — о проституции и еще — о смертельных болезнях, об убивающем равнодушии, о неблагополучии семейной жизни, о беспросветной мерзости, о неустройстве личной судьбы, о безысходности человеческого существования. Героями произведений Петрушевской стали «маленькие» люди, замученные жизнью, обманутые судьбой, непонятые и нелюбимые, нередко герои с притупленными чувствами, живущие как во сне или под наркозом, без ярко выраженных личностных эмоций. Среди них — преимущественно женщины, слабые и несчастные, страдающие в жестоком и бездушном мире и нередко сами становящиеся жестокими и бездушными. Один из ведущих мотивов творчества Петрушевской — мотив одиночества, отстраненности от жизни, брошенности и неустроенности. Главным образом — «неустроенности» и «отстраненности» одинокой героини-женщины, потому абстрактно-отвлеченные понятия в прозе Петрушевской носят не философски-бытийный, а сниженнобытовой характер.
Г л а в а I 6 Ситуации, в которых оказываются персонажи рассказов и пове стей Петрушевской, да и сами герои воспринимаются как на редкость жизнеподобные, предельно реалистичные и узнаваемые. В каждой отдельной ситуации писатель беспредельно точна, ее письмо безмерно детализировано, «ее зрение стереоскопично» (И. Пруссакова), она «едва ли не стенографична в отношении к звукам реальной жизни» (Е. Невзглядова). Конкретные сцены и эпизоды, воспроизведенные автором, не вызывают сомнения в их житейско-бытовой достоверности и подлинности. Между тем возникает вопрос: в чем причина той сгущенности, нагнетенности ужасов и несчастий, которые происходят с персонажами; каков смысл усиления трагедийности конфликтов и неразрешимости проблем, которые встают перед ее героями; где истоки того зла и той ненависти, того мрака (в самом широком смысле), что рассеяны в героях Петрушевской? По словам Вик. Ерофеева, «Людмила Петрушевская, находясь на стыке двух литературных поколений, “разрывается” между уверенностью шестидесятников, что пороки социально мотивированы, и между безнадежностью “другой литературы”, когда источник зла обнаруживается в самой природе человеческой» («Русские цветы зла»). Однако ни проза, ни драматургия Петрушевской не дают основания считать, что автор занимается поисками истоков и первопричин зла, подобно классикам русской литературы — Н. Гоголю, Ф. Достоевскому, Ф. Сологубу, на чьи традиции в прозе Петрушевской указывает критика. В русле литературы постмодерна Петрушевская принципиально выступает в роли бесстрастного свидетеля, детальноточного бытописателя, соблюдает позицию невмешательства, ибо иной подход в философии постмодерна объективно немотивированн, лишен смысла и обречен на неудачу. Однако «позиции автора» недостаточно, чтобы осознать особен ности творчества Петрушевской, ибо объективированная точка зрения автора носит мнимый характер. Средоточие «мрака» — ужасов, трагедий, несчастий, болезней, предательств, мерзостей, не-любви — на страницах произведений Петрушевской едва ли не равновелико его суммарному объему в литературе предшествующего десятилетия. Она утрированно сосредоточивает в отдельном персонаже возможные пороки и несовершенства, изображает жизнь героев в моменты исключительно неблагополучные и неблаговидные. Кажется, правильнее было бы сказать, что Петрушевская не «разрывается», а нагнетает и
Поэтика «мрака» в прозе Людмилы Петрушевской 7 концентрирует в своих героях и ситуациях как зло, социально детерминированное, так и зло, мотивированное несовершенством человеческой природы. И в данном случае на первый план выступает еще одно важное качество прозы Петрушевской (как и литературы постмодерна в целом) — игровое начало. Игра в творчестве Петрушевской не носит характера релаксанта, но служит драматизации событий и наращиванию напряжения художественного повествования. Игра (в самом широком смысле) опосредует все уровни художе ственного текста у Петрушевской: от позиции автора, его отношения к материалу, условий построения характера до стилистики повествования. А. Барзах говорит о возникновении в прозе Петрушевской иллюзии «всезнающего автора, находящегося вне поля действия и всласть ерничающего (выделено мною. — О. Б.) и по поводу героев, и над собой, и заодно над самим фактом литературности»1. Петрушевская «играет» в литературу и «играет» в литературе. Петрушевская: «Спасибо советской власти за то, что она не дала нам работать по профессии, так что наша литература возникла как развлечение». По существу, утверждение о пронизывающем игровом начале в творчестве Петрушевской сродни тому, что М. Липовецкий означил как «л и т е р а т у р н о с т ь» ее прозы2. Критикой давно замечен тот факт, что проза Петрушевской не психологична, «внепсихологична, антипсихологична» (А. Барзах) и что психологическая основа характера в ее произведениях отсутствует. Е. Щеглова пишет: «Она не создает характеров. Их просто не существует в ее художественном мире»3. Анализируя особенности построения образа у Петрушевской, М. Липовецкий обозначил их как «архетипы»4, некие знаки, формулы, имеющие внешние признаки, но не имеющие мотивации, не предполагающие развития и самоисчерпывающиеся внутри отдельного текста. Е. Щеглова назвала это «конспектом образа». Так, по поводу повести «Время ночь», в связи с отсутствием «предысторий» персонажей, Е. Щеглова задается множеством вопросов: «Какая трагедия стоит за поведением Алены — любовь ли к бро 1 Барзах А. О рассказах Л. Петрушевской // Постскриптум. 1995. № 1. С. 253. 2 Липовецкий М. Трагедия и мало ли что еще // Новый мир. 1994. № 10. С. 229–232. 3 Щеглова Е. Во тьму — или в никуда? // Нева. 1995. № 8. С. 193. 4 См.: Липовецкий М. Трагедия и мало ли что еще. С. 229–232.
Г л а в а I 8 сившему ее в дальнейшем человеку, которого женили на ней насильно, под давлением угроз, или что-то иное? Что за человек был тот вовсе не ведомый нам ее муж Саша <...> На какой почве <...> взросла могучая, испепеляющая ненависть Алены к матери, — обиды ли за ее мужа, которого она, может быть, в отличие от матери, любила (или нет?), или опять же чего-то иного? Что привязало ее к злосчастному “замдиректора”, от которого у нее дочь, — смертельная ли обида на неудавшуюся жизнь, попытка ли обрести рядом живую душу — или что-то иное? И что за человек несчастный спивающийся ее брат Андрей? <...> И Анна Андриановна — “поэтесса”. Поэтесса ли? В повести и следа нет не то что от ее стихов — от ее внутреннего (читайте — поэтического, по логике вещей) мира. А ведь она меж тем говорит в повести, что и жить не могла без сочинения стихов. Так каких стиховто? Или она, как в пылу ссоры крикнула ей Алена, и впрямь графоманша?» И сама критик резюмирует: «Но для того, чтобы <...> понять, повесть попросту не дает материала»1. Характеры в произведениях Петрушевской обозначены схема тично, знаково, эмблематично. Они дают представление о содержании знака, но не предлагают его экспозиции, истоков и условий его формирования. Конкретный персонаж контурирован прозаиком в его конкретной данности и конкретном наполнении на конкретные обстоятельства. Пространственная, временная и психологическая экс- и постпозиция героя автора не интересует. Интерес заключен в самой избранной ситуации, в том, какова непосредственная реакция персонажа на выбранные обстоятельства. «Эту прозу нельзя назвать психологической, — пишет А. Барзах. — Она скорее как бы ситуационна; это “драма положений”, скорее чем “драма характеров”»2. В этом смысле Петрушевскую привлекают обстоятельства и си туации (как ни странно это звучит по отношению к ее «повседневнобытовой» прозе) исключительные, неординарные, непроходные, наиболее сильные и острые в эмоциональном плане. М. Липовецкий: «Даже рисуя совершенно проходную ситуацию, Петрушевская, вопервых, все равно делает ее пороговой, а во-вторых, неизбежно помещает ее в космический хронотоп». Ее сюжетные коллизии, по существу, — отдельные «куски» и «автономные осколки» действительности, а картина жизни, складывающаяся из них, — «дробная» и 1 Щеглова Е. Во тьму — или в никуда? С. 193–194. 2 Барзах А. О рассказах Л. Петрушевской. С. 256.
Поэтика «мрака» в прозе Людмилы Петрушевской 9 «бессвязная» (М. Липовецкий). Но именно их — обстоятельства и события исключительные, а не рядовые, не обыкновенные, не привычные — писатель выстраивает в единую и протяженную «жизненную» цепочку, превращая их в череду событий привычных, придавая им вид ординарности, создавая иллюзию обычно-текущей жизни. Из человеческих судеб, из людских «полосатых жизней», сочета ющих в себе «белое» и «черное», Петрушевская намеренно отбирает только «черные», наиболее напряженные, накаленные, драматичные «полосы». При условии отсутствия «альтернативы», в положении, когда из оппозиции «черное-белое» вырывается только один из полюсов, «чернота», не имеющая противовеса, уже не выглядит «оченьчерной». Лишенная цветового спектра, неоттененная иной гаммой, избегнувшая контраста с «белым», «чернота» выглядит единственноубедительной возможностью и «не-такой-уж-черной», а скорее — серой, обыденной, обыкновенной. По Н. Лейдерману и М. Липовецкому, Петрушевская последовательно «романизирует» хаос бессвязных фрагментов, литературностью письма обеспечивая Жизнеподобие1. Автор «играет» с читателем: она сознательно переводит неординарное в ранг ординарного, необычное в положение обычного, исключительное в разряд привычного; тем самым ей мастерски удается, с одной стороны, за счет «эксклюзивности» событий добиться высокого эмоционального накала письма, с другой — за счет «умножения» их количественного присутствия в тексте вызвать «симптом привыкания» и благодаря этому сохранить иллюзию достоверности и жизнеподобия изображаемого. Эффект исключительности изображаемых героев и обстоятельств аннигилируется не только благодаря закону «перехода количества в качество», то есть когда огромное «количество» не-типичного начинает восприниматься как «качественно» иное — типичное и неопасно-знакомое (в результате «привыкания» к нему), но и благодаря предельной детализации текста, насыщения его бытовыми подробностями (то, что Е. Щеглова назвала «бытовым натурализмом»), привлекающими своей конкретикой и отвлекающими от осознания неправдоподобия нагромождаемых ужасов. При этом «детализация» у Петрушевской носит особый характер: конкретная деталь не является признаком конкретики индивидуализированного мира, но чертой 1 Лейдерман Н., Липовецкий М. Между хаосом и космосом. Рассказ в кон тексте времени // Новый мир. 1991. № 7. С. 240–257.
Г л а в а I 10 мира без-индивидуального; деталь — характерологическая особенность определенной социальной среды в целом, а не личностного мира конкретного персонажа. Именно поэтому ни черт урбанистического пейзажа, ни «топографических» признаков, ни «координат» местности в рассказах Петрушевской нет. Топос событий в рассказах Петрушевской «конкретен» настолько, насколько это не мешает ему быть универсально-типизированно-социально-обобщенным. «Фон» и «контекст» (как в отношении событий, так и в отноше нии героев) в рассказах Петрушевской ослаблены настолько, что можно говорить едва ли не о полном их отсутствии: антураж событий стерт, границы пространств «кулуарны», а количество героев сведено к минимуму: «лишних» героев у Петрушевской нет. Отсутствие «фона» усиливает «крупный план»: «недостаток» фоновых деталей компенсируется отточенностью и резкой прорисованностью, контрастной (темный ↔ светлый, черный ↔ белый, добрый ↔ злой, божественный ↔ дьявольский и т. д.) выразительностью тех немногих обобщающих деталей, которые создают общую картину. Осознанно-избирательным подходом к отбору материала объяс няется и необычность формирования сюжета в произведениях Петрушевской и его однообразие. В. Бондаренко: «Схема всегда одна и та же»1. И. Пруссакова: «этапы великого пути» героев Петрушевской всегда одни и те же — «любовь, нелюбовь, одиночество, гибель»2. А. Михайлов: «В центре, как правило, ОНА. Это или “обыкновенная приличная еврейская женщин с большими черными глазками” (“Алибаба”), или “тихая, пьющая женщина со своим ребенком, никому не видимая в однокомнатной квартире” (“Страна”). Таков диапазон. Между этими крайностями еще куча вариантов. Потом идет ОН, который или “сразу после рождения их общего ребенка стал гулять, много пил и иногда дрался” (“История Клариссы”), или какой-нибудь интеллигентный неудачник, чьи “мечты бы могли исполниться и он мог бы соединиться с любимой женщиной, но путь его был долог и ни к чему не привел” (“Я люблю тебя”). К ней и к нему могут подключаться второстепенные действующие лица, как-то сосед(ка), товарищ(подруга) по работе, человек, стоящий рядом в очереди в пивбар или лежащий на больничной койке случайный собутыльник и т. д. и т. п. Они, как им и положено, играют свои зловещие, либо положи 1 Бондаренко В. Музыка ада Л. Петрушевской // День литературы. 1998. № 10. С. 1. 2 Пруссакова И. Погружение во тьму // Нева. 1995. № 8. С. 190.