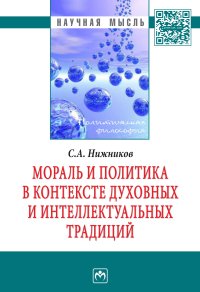Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций
Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций: Ключевые идеи монографии С.А. Нижникова
В монографии С.А. Нижников исследует взаимосвязь морали и политики, анализируя различные подходы к этой проблеме в контексте духовных и интеллектуальных традиций. Автор рассматривает ключевые концепции, начиная с трудов Никколо Макиавелли и заканчивая современными политическими теориями.
Макиавелли и его наследие
Нижников анализирует тезис Макиавелли о том, что благая политическая цель оправдывает любые средства, выделяя при этом разницу между взглядами самого Макиавелли, макиавеллизмом и гуманизмом. Он подчеркивает, что макиавеллизм, подразумевающий, что цель оправдывает любые средства, по сути, является преступной деятельностью, а не политикой.
Четыре подхода к соотношению морали и политики
Автор выделяет четыре основных подхода к соотношению морали и политики: тезис Макиавелли (благая цель оправдывает любые средства), макиавеллизм (цель оправдывает любые средства), гуманистический подход (благая цель может быть достигнута только благими методами) и пацифизм (непротивление злу силой). Нижников подчеркивает, что гуманистическая политика, основанная на принципе ненасилия, является наиболее перспективным путем решения современных глобальных проблем.
Духовные основы политической философии
Нижников уделяет особое внимание духовным основам политической философии, анализируя вклад Ф.М. Достоевского в осмысление этой проблемы. Он подчеркивает, что Достоевский рассматривал веру как основу морали и видел в ней источник надежды на преодоление зла. Автор также анализирует влияние исихазма на творчество Достоевского, отмечая, что именно в этой традиции можно найти истоки гуманистической политической философии.
Ненасилие и его границы
Нижников проводит различие между принципом ненасилия и пацифизмом, подчеркивая, что ненасилие не исключает необходимость защиты от агрессии, в то время как пацифизм может приводить к пассивности перед лицом зла. Он анализирует примеры из истории, показывающие, что истинное ненасилие требует активной борьбы со злом, но не его повторения.
Критика «великих учений» и современность
Автор критикует «великие учения» прошлого, такие как марксизм и современный либерализм, за их склонность к утопизму и насилию. Он подчеркивает, что современная политическая ситуация требует переосмысления традиционных подходов и разработки новых концепций, основанных на ценностях гуманизма и ненасилия. Нижников приходит к выводу, что именно в духовных традициях человечества, в частности, в православии, можно найти ответы на вызовы современности.
- ВО - Бакалавриат
- 40.03.01: Юриспруденция
- 44.03.01: Педагогическое образование
- 44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
- 47.03.01: Философия
- ВО - Магистратура
- 47.04.01: Философия
Ñ.À. ÍÈÆÍÈÊÎÂ Ñ.À. ÍÈÆÍÈÊÎÂ МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНЫХ В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ ТРАДИЦИЙ Монография Москва ИНФРА-М 2017
ФЗ № 436-ФЗ Издание не подлежит маркировке в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 УДК 1/14 ББК 87.7 Н60 Р е ц е н з е н т ы: доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета В.В. Сербиненко; доктор исторических наук, профессор Российского университета дружбы народов Д.Е. Слизовский Н60 Нижников С.А. Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 332 с. — (Научная мысль). ISBN 978-5-16-010794-3 (print) ISBN 978-5-16-103334-0 (online) В исследовании сквозь призму творчества Н. Макиавелли выявляются возможные варианты соотношения морали и политики, среди которых: самого Макиавелли (только благая политическая цель оправдывает любые средства), макиавеллистский (цель оправдывает любые средства) и гуманистический (благая цель может быть достигнута только благими методами). Устанавливается принципиальная разница указанных вариантов понимания соотношения политики и морали, отмечается, что макиавеллистский вариант вовсе нельзя назвать политикой, поскольку такая деятельность в высшей степени преступна. Утверждается, что решение современных глобальных (как международных, так и внутренних) проблем возможно лишь на основе гуманистической политики, принципы которой открыты еще в «осевое время» мировыми религиями и философией, развиты И. Кантом, Ф. Достоевским, Л. Толстым, Махатмой Ганди, М.Л. Кингом и др. В подробностях раскрывается полемика И. Ильина с доктриной «непротивления злу силой». Анализируется роль интеллигенции в российском обществе. УДК 1/14 ББК 87.7 © Нижников С.А., 2011 ISBN 978-5-16-010794-3 (print) ISBN 978-5-16-103334-0 (online) Книга издана в авторской редакции Подписано в печать 06.05.2016. Формат 60×90/16. Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 20,75. ППТ20. Заказ № 00000 ТК 151020-558414-250311 ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1. Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29. E-mail: books@infra-m.ru http://www.infra-m.ru Отпечатано в типографии ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1 Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29
ВВЕДЕНИЕ
Впервые принципы моральной политики, ненасилия провозглашаются в «осевое время» вместе с возникновением философии и развитых форм религии. Именно в то далекое время совершился подлинный переворот в отношении к насилию. Древний мир до того не знал
такого глубокого отвращения к нему, ибо физическая сила обожествлялась. Наиболее принципиальное отрицание насилия мы можем найти в даосизме, буддизме, Упанишадах, Библии, Коране, античной философии (Сократ) и т.д. Оказалось, что, не правда в силе, а сила в
правде (Александр Невский). Ненасилие есть содержательное определение добра и потому – «синоним этики»1, в то время как насилие «не
может быть вписано в пространство разума и морали»2. Для М. Ганди
также «есть только одна фундаментальная истина, Истина как таковая, иначе называемая Ненасилием»3.
Вначале возникает принцип, провозглашенный, пожалуй, впервые
Конфуцием: «Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе», засвидетельствованный также в Евангелии, затем, в качестве основного этического императива, – И. Кантом. Этот принцип
можно назвать минимумом морали, позволяющим выжить человеческому обществу в качестве человеческого. Максимумом же морали
можно назвать принцип возлюби, и не только ближнего своего (к которому относятся все люди), но и врага. То, что даже на врага должна
распространяться не просто милость, но любовь, до сих пор не может
быть даже словесно воспринято общественным сознанием. Этот высший духовный принцип – вечная задача для воплощения; его могли в
той или иной степени реализовать лишь святые и великие гуманисты.
При этом нельзя впадать в пацифистскую трактовку данного положения. Оно не отменяет борьбы со злом, но разделяет человека и завладевшее им зло, оставляя ему время и место для освобождения от него
(с чем связан гуманистический запрет на смертную казнь).
В этой связи в представленном исследовании ставятся под сомнение по крайней мера два мифа новоевропейского социальнополитического дискурса. Первый касается того, что политика вне морали, что она – «грязное дело» и с этим ничего нельзя поделать, что
таково содержание «жанра». Но уже одно только признание этого,
якобы само собой разумеющегося «факта», уничтожает политику как
таковую, ибо она не только должна быть моральной, но и не может
быть не моральной хотя бы в определенной степени. Окончательное
1 См.: Гуссейнов А.А. Этика ненасилия // Вопр. философии. 1992. – № 2. –
С. 72.
2 Насилие и ненасилие: философия, политика, этика. – М., 2003. – С. 73.
3 Gandhi M. Selected Political Writings / Ed. D. Dalton. – Indianapolis, 1996. –
P. 31.
3
ее «освобождение» от морали приводит или к анархии, или к террору,
тирании, тоталитаризму. Здесь две диалектические крайности сходятся, дополняя друг друга и переходя друг в друга. Моральная политика
– это искомая «золотая середина». Как поясняет Адриан Пабст, современный духовно-нравственный кризис человека и человечества,
породивший все глобальные проблемы, «является продуктом морального релятивизма», «демократии, свободной от ценностей»1.
Другой миф говорит о том, что есть незыблемые законы общественно-политического развития, и что есть «великие учения» и «великие учителя», которым открылись тайны социального бытия. Ранее
это был марксизм-ленинизм, а сейчас миф о справедливости и моральности современной доктрины «либеральной демократии» и однополярного мира2.
Спор о том, что такое моральная политика, был начат в русской
культуре уже в позапрошлом веке, наиболее глубоко развернулся в
творчестве Ф.М. Достоевского и наиболее отчетливо проявился в полемике, развернутой вокруг книги И.А. Ильина О сопротивлении злу
силою. Отзывы на нее отчетливо обозначили противостоящие позиции
внутри русской эмиграции. Так, например, Н. Бердяев выступил против «кошмара злого добра», опубликовав статью с одноименным названием. Он считал, что «чека» во имя Божье более отвратительно,
чем «чека во имя дьявола». А Н.О. Лосский в Истории русской философии, напротив, оценил работу Ильина в высшей степени положительно. Все нюансы данной полемики скрупулезно представлены в
данном исследовании сквозь призму творчества таких ключевых для
данной темы фигур как Н. Макиавелли, И. Кант, Ф.М. Достоевский
и др.
1 Пабст Адриан. Что стоит за кризисом секуляризации // Духовность, достоинство и свобода человека в современной России. В 2–х ч. – Ч. 1. – Пермь, Перм.
Гос. ин-т искусства и культуры, 2009. – С. 77. Автор ссылается на Папу Бенедикта
XVI, сравнивая современную либеральную демократию с фашизмом: «когда либералы ни во что не верят – фашизм не за горами» (там же).
2 Панарин А.С. Народ без элиты. – М., 2006. – С. 280.
4
Часть I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ НАУК Необходимость политической философии заключается в том, что ее не может заменить ни одна наука, ибо только она задумывается о философских, т.е. наиболее фундаментальных основаниях политической жизни и политической системы, форм правления и политического режима. Тем самым политическая философия способна создавать новое знание, новое политическое мировоззрение. Таким образом, благодаря политической философии осуществляется прирост наших знаний о сфере политики, когда количественные показатели (многообразие информации) приводят к качественным (мировоззренческим) изменениям в понимании сущности политического. Политическая философия также является необходимой для формирования ответственной личности, так как она тесно связана с этикой. Приобщаясь к этико-политическим идеям личность гуманизируется, ее мировоззренческий горизонт расширяется и углубляется. Так как политическая философия ориентируется на должное, на ценностные аспекты, она неотторжима от морали, которая также выражается в долженствовании, исходит из должного. Согласно Исайе Берлину “Этическая мысль заключается в систематическом изучении отношений людей друг к другу, тех представлений, интересов, идеалов, на основе которых формируются методы воздействия людей друг на друга, а также ценностных систем, служащих основой для выбора целей жизни. представления о том, как следует жить людям... является предметом этического исследования; а применительно к группам, нациям и, разумеется, ко всему человечеству, это называется политической философией, которая есть не что иное, как этика применительно к обществу”1. Мораль – это тоже власть, не политическая, но влияющая на политику. Современное демократическое общество не может не быть гражданским, т. е. оно должно представлять собой совокупность обладающих правами и имеющих обязанности граждан. Полноценным гражданином может быть человек, не только наделенный юридическими правами и обязанностями, но и имеющий достаточный уровень самосознания, то есть осознанно относящийся к себе, своему месту и роли в обществе, активно участвующий в политической жизни. Политическая философия способствует формированию прогрессивной гражданской позиции, отражающей потребности современного развития общества. Осознанное отношение к своему гражданскому долгу и истинное понимание того, в чем он заключается, невозможно без той совокупности знаний об обществе, которую может дать только изуче 1 Берлин Исаия. Поиски идеала // Подлинная цель познания. – М., 2002. – С. 3-4. 5
ние политической философии. Демократия невозможна без достаточно высокого уровня самосознания граждан.
Политическая философия способствует формированию политической культуры, ее наиболее глубоких оснований. Она противостоит
как аполитичности, так и политиканству. Аполитичным может быть
только человек, не осознающий свой долг перед обществом и отдающий свои права и возможности участия в общественной и политической жизни другим силам. Происходит это потому, что «свято место
пусто не бывает», власть не терпит вакуума. Аполитичность одних
граждан компенсируется чрезмерной активностью других, которые
используют пассивность избирателей в своих целях. Таким образом,
неучастие в политической жизни, политический абсентеизм не может
быть в нормальных условиях гражданской позицией, а свидетельствует об отсутствии таковой. В случае разочарования граждан в предвыборной кампании и выдвигаемых кандидатах можно проявить свое
отношение голосованием «против всех»1, но никак не игнорированием самих выборов, если они легитимны. Русская интеллигенция несколько веков боролась за свободные и всеобщие выборы, которые
впервые состоялись лишь в 1989 г.
Политиканство представляет собой другую крайность, когда чрезмерная псевдо политическая активность подменяет собой трезвый
анализ. Политиканство обычно не связано с осознанием реальных потребностей общества и борьбой за их реализацию, а с фанатичным
отношением, идеологической ангажированностью, демагогией, популизмом и т. д. Такая политическая сверхактивность наносит вред естественному развитию общества. Политическая философия учит занимать грамотную гражданскую позицию, не впадать в крайности
аполитичности и политиканства, формировать и отстаивать собственную точку зрения. Поэтому познания в области политической философии в наибольшей степени могут способствовать общественному
прогрессу. Функция политической философии, как, впрочем, философии и политологии не должна быть только «критической», но и созидательной, творческой.
Платон связывает политическую философию с осмыслением способности повелевать, управлять людьми, что он называет одним из
сложнейших и самых труднодостижимых умений (Политик 292с-d).
Политика – искусство управления, а политическая философия – знание основных принципов этого искусства. В политике самое важное –
стремление к утверждению благого справедливого государства, а для
реализации этой цели необходимы соответствующая форма правления
и законодательство. Политический философ в этом случае – учитель
1 Однако при переходе к пропорциональной избирательной системе необходимость в графе «против всех отпадает, так как голосование осуществляется за
партии, а не отдельных кандидатов.
6
законодателей. Ибо закон несовершенен и философ должен способствовать осуществлению его связи с естественным правом (Платон). Политическая философия стремится понять природу политического, ведущей ее темой является скорее режим, нежели законы, естественное, а не позитивное право. Политическая наука исходно означала умение, при помощи которого человек мог бы разумно, при помощи слова и дела, управлять делами политических сообществ, а политическая философия есть рефлексия по поводу этих принципов, она их вырабатывает. Политическая философия есть специфическое знание, а именно знание власти над людьми, взятое в своем предельном обобщении. Политическая философия постоянно и неустанно стремится выработать как сами политические принципы, так и знание о них. Она стремится вскрыть сущность политического, его истину. Платон называет способность управления государственными делами искусством “царственного плетения”. Суть его в способности гармонически сплетать мужественные и активные силы общества с рассудительными и консервативными, подобно тому, как при тканье сплетается прочная нить основы и мягкая и нежная пряжа уткá. Политическая философия особенно актуально сегодня, ибо современное общество характеризуется большой сложностью и быстрыми переменами. В этих условиях политическое знание становится все более труднодостижимым и устаревает значительно быстрее, чем в былые времена. Необходимы новые способы приобретения политических знаний, одним из них и является политическая философия. § 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И НАУКА Политическая философия аксиологична, ибо всякое политическое действие несет в себе стремление к знанию блага, в роли которого выступает хорошо функционирующее общество. Хорошее общество в этом аспекте представляет собой завершенное политическое благо. По своей сущности политические события подлежат одобрению или неодобрению, выбору или отвержению, похвале или порицанию, – они не нейтральны. Лео Штраус отмечает, что невозможно изучать социальные феномены, не вынося при этом ценностных суждений. Поэтому политическая философия, с его точки зрения, несовместима с позитивистской и сциентистской установками. Политическая философия не является точной наукой и отличается от нее также как и философия. Однако осознание этого различия появилось недавно (как и между философией и наукой), после XVII в. Традиционно политическая философия и политическая наука были тождественны. Политическая наука может стремиться использовать методологию естественных наук, в то время как для политической 7
философии это вряд ли возможно. Однако политическая наука может
поставлять материал для теоретизирования политическим философам.
И. Берлин отмечает, что «попытки философов восемнадцатого века
превратить философию, особенно нравственную и политическую философию, в эмпирическую науку, в индивидуальную и социальную
психологию, не увенчались успехом. Они обанкротились... поскольку
наши политические понятия являются частью нашего представления о
том, что такое человек, а это не просто вопрос факта...»1. Локк, Юм,
Кондильяк «стремились свести вопросы о ценностях к вопросам о
фактах». Но «Основные категории (и связанные с ними понятия) с
помощью которых мы определяем людей — такие понятия как общество, свобода, чувство времени и изменения, страдание, счастье... хорошее и плохое... — не устанавливаются индуктивным или гипотетическим путем»; «То же самое относится и к ценностям (в том числе и
политическим), в свете которых мы определяем людей»; «Вот почему
те, кто ограничивается наблюдением человеческого поведения и эмпирическими гипотезами по его поводу, — какими бы глубокими и
оригинальными они ни были, не являются, как таковые, политическими теоретиками... Поэтому мы и не считаем таких убежденных эмпириков, изучающих, скажем, образование и поведение политических
партий, элит, классов... политическими философами или социальными
теоретиками в широком смысле слова»2.
Наука изучает сущее, а политическая философия не только сущее,
но и должное; она стремится соединить, связать сущее и должное,
политический идеал и действительность. При этом политический идеал нельзя путать с утопией, он представляет собой лишь идеальную
модель (М. Вебер).
Точная наука имеет строго очерченный предмет изучения, который заранее дан, обнаружен, наука лишь описывает его, познает,
стремится вскрыть его взаимосвязи с окружающим миром. Относительно политической философии дело обстоит сложнее. Есть ли такой
предмет как политическое? Кто его видел? Можем ли мы при помощи
органов чувств обнаружить политическое, указать на него? И да, и
нет. Да, потому что на что бы мы ни указали в нашей человеческой
жизни, во всем присутствуют властные отношения, но это присутствие не всегда очевидно, тем более скрытыми могут быть их причины
и механизмы. Политические отношения пронизывают всю человеческую жизнь, однако они непосредственно не осязаемы. Политическое
присутствует в монашеской келье и на площадях, в библиотеках и на
демонстрациях. Одним словом, оно везде и нигде одновременно! Оно
1 Берлин Исаия. Существует ли еще политическая философия? // Подлинная
цель познания. – М., 2002. – С. 109.
2 Берлин Исаия. Существует ли еще политическая философия? // Подлинная
цель познания. – М., 2002. – С. 110, 114-116.
8
действительно существует, но его невозможно потрогать рукой. Политическое имеет чувственно-сверхчувственную форму, поэтому оно – понятие философское, во многом умозрительное: оно осознается не в меньшей степени, чем наблюдается. И хотя политическое существует тысячелетия, как нечто самостоятельное оно было осознано не так давно, а политическая философия как университетская наука появилась лишь в XX в. (хотя XXV веков она пребывала в лоне философии, не выделяясь из нее). Понятие политического, являясь философским, не дано изначально в качестве противостоящего сознанию человека объекта. Оно исторически формируется и познается. Предмет политической философии, как и философии, не дан, а задан. Он является проблемой. Поэтому политическую философию можно назвать самопорождающейся сферой знания, что невозможно в традиционной науке, где предмет уже весь налицо, и задача состоит лишь в детальном его изучении. Изучение политического во многом состоит во все более глубоком определении самого понятия политического. В этом заключается философский аспект политической философии. Если наука изучает сущее, а философия – бытие, то политическая философия – политическое бытие. Политическая философия не может «похвастаться» наличием совершенно определенных объективных знаний о своем предмете, которые имеют отдельные науки. В ней многое зависит от мировоззренческих установок познающего. Многообразие интерпретаций одного и того же политического события естественно в политической философии, но недопустимо в строгой науке. В науке такое возможно лишь на стадии гипотезы и исследования, но затем достигается фактическое знание, которое является общезначимым и объективным, с которым соглашаются все ученые. Политическая философия, напротив, развивается через спор различных точек зрения, который никогда не может прекратиться, ибо здесь нет раз и навсегда установленной истины. Да и сама истина в этом случае носит не столько желаемый объективный характер, сколько субъективный, оценочный. Трудно найти в истории развития общества хоть один такой факт, в интерпретации которого мнения всех мыслителей совпали бы. В сказанном заключается и слабость, и достоинство политической философии. Слабость – в никогда не достижимой всецело объективной истине, на которую претендует наука; достоинство – в свободе от строгих причинно-следственных связей, возможности иметь собственную, независимую точку зрения. Это не значит, однако, что в политической философии царит хаос и произвол, просто истина здесь носит многосторонний характер. Тем не менее политическая философия, как и любая наука, стремится к объективному познанию своего предмета. Но если наука отчасти способна его реализовать, то на долю политической философии 9
выпадает лишь «бесполезная страсть», она хочет, но не может познать политическое до конца, и не столько в силу своей слабости, сколько в силу несоизмеримости предмета изучения с человеческими познавательными возможностями и ограниченностью познавательной методологии. Другая черта, объединяющая науку и политическая философия – стремление выявить причинно-следственные связи, рассмотреть предмет в его становлении и развитии. Политическая философия даже в большей степени, чем наука, исторична; она немыслимо без истории, конституируется в историческом бытии общества. Политическая философия, несмотря на свои отличия от строгой науки, не иррациональна, не противостоит точной науке, хотя и не тождественна ей. То, что в политической философии нет математической строгости добытых результатов познания как в естественных науках, еще не говорит о том, что в ней отсутствует познание. Понятие «знание» гораздо шире, чем понятие «научное знание», – последнее лишь входит в первое. Существует огромный пласт знаний, без которых не в состоянии жить ни человек, ни человеческое общество, однако его нельзя назвать научным. Такого рода знание, например, заложено в духовных традициях человечества: в философии, религии, морали и искусстве. Оно выходит за рамки причинно-следственных связей и рационализма, а иногда не просто трудно поддается научному анализу, но может и разрушаться под его воздействием. Однако политическая философия учитывает такое знание. Ведь люди в политике не всегда ведут себя рационально, и это не обязательно плохо. Разве можно назвать любовь или бескорыстную помощь другому человеку всецело рациональными? Однако без этих проявлений духовности нет человеческого общества. Достоинство научного метода, состоит в том, что он носит всеобщий, объективный и доказательный характер. Но есть у него и недостатки: не все можно подтвердить или опровергнуть экспериментально, ибо не все человеческое знание носит чувственный и эмпирический характер. Есть формы вненаучного познания, которые тоже являются познанием, но критерии истинности у них другие, нежели у науки. Это необходимо понимать, чтобы не распространять методы точных наук на то, что в принципе невозможно верифицировать экспериментально. К таким вненаучным формам познания можно отнести философию, религию, искусство, мораль. Они являются вненаучными, ибо их методы шире научных, не ограничены ими, но они не являются, вместе с тем, и антинаучными, иррациональными. Просто в них присутствует другой тип рациональности. Что касается мистики и иррационализма, то они не являются познанием вовсе, ибо строятся либо на вымысле или суеверии (мистика), либо на утверждении агностицизма. 10