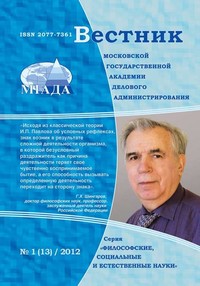Вестник Московской государственной академии делового администрирования, 2012, № 1(13)
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Обществознание
Год издания: 2012
Кол-во страниц: 199
Дополнительно
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Научный журнал Издается с января 2010 года. Выходит один раз в два месяца. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-37940 от 5 ноября 2009 года Журнал входит в действующий Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенных ВАК для публикации трудов на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук Серия «Философские, социальные и естественные науки» Редакционный совет: Костина Т.И. доктор философских наук, профессор, ректор МГАДА Председатель Костин И.Б. кандидат экономических наук, Первый проректор МГАДА Зуева И.А. доктор экономических наук, профессор, проректор по учебно-методической работе МГАДА Пирогов А.И. доктор философских наук, профессор, проректор по научной работе МГАДА Токмовцева М.В. кандидат юридических наук, профессор, декан юридического факультета МГАДА ISSN 2077-7361
Редакционная коллегия: Пирогов А.И. доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, педагогики и общественноправовых дисциплин, проректор по научной работе МГАДА Агапов В.С. доктор психологических наук, профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХ иГС Гирусов Э.В. доктор философских наук, профессор кафедры философии, педагогики и общественно-правовых дисциплин МГАДА Зазыкин В.Г. доктор психологических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХ иГС Кожухов И.Б. доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики, информатики и информационной безопасности МГАДА Мамедов Н.М. доктор философских наук, профессор кафедры философии, педагогики и общественно-правовых дисциплин МГАДА Миронов А.В. доктор социологических наук, профессор, главный редактор научно-образовательного журнала «Социально-гуманитарные знания» Ницевич В.Ф. доктор политических наук, профессор, ректор ОрАГС Олейникова О.Н. доктор педагогических наук, Директор Центра изучения проблем профессионального образования (Tempus), профессор кафедры делового администрирования и административного права МГАДА Оруджев З.М. доктор философских наук, профессор кафедры философии, педагогики и общественно-правовых дисциплин МГАДА Главный редактор
Содержание Тема номера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Шингаров Г.Х. Условный рефлекс — естественно-научная модель изучения знаковых систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Духовно-нравственные проблемы бытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Емельяшин В.П., Алиева К.С., Курбанова А.В. Жизненные стратегии российских женщин в современных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Комаров А.И. Проблема сущности творчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Кулиев З.А. Концептуальные аспекты экологической этики. . . . . . . . . . 34 Паршин Т.В. Стратегия и тактика ноосферогенеза . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Растимешина Т.В. Власть и культурное наследие: вечные и вещные связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Личность. Общество. Государство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Безрукова А.А. Факторы роста социально-политической напряженности на юге России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Кирнарская С.В. Феномен человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Кончугов А.В. К вопросу о теории социальной политики. . . . . . . . . . . . 65 Лапина Е.П., Куроедов А.В. Сравнительно-правовой анализ правового положения организаций, участвующих в бюджетном процессе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Мазур Е.Ю. Основания налоговой политики государства: история и современность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Смолева С.С. Субъектно-объектные аспекты и принципы деятельности служб по связям с общественностью органов муниципальной власти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Стакина Ю.М., Шангина О.В. Проблема жизнестойкости: человек в современном мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Актуальные проблемы науки и естествознания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Кудрявцева Л.А. Функции роста и мощности классов некоторых двупорожденных полугрупп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Мунин П.И. Феноменологическая хронология развития информационного общества знаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Терещенко А.М. Математическое моделирование распространения примесей в атмосфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. № 1 (13) 4 Профессиональное образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Зайцева Н.Г., Семья Г.В. Система поддержки выпускников, выходящих из-под государственной опеки: зарубежный опыт . . . . . . 129 Митрущенкова А.Н. Инновации в обучении английскому языку при переходе к двухуровневой системе высшего профессионального образования в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Мишина Е.И. Психологическое сопровождение личностной рефлексии будущих специалистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Наумова Д.В. Логика развития и становления профессионального образования в России: историко-психологический аспект. . . . . . . . . . 149 Успенская Е.А. Личностно ориентированное обучение студентов иностранному языку с учетом их типов восприятия информации . . . . 160 Хуснетдинова М.К. Мобильная лингвистическая лаборатория как средство проектной технологии для развития самостоятельности учащихся в изучении иностранных языков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Чугреева Е.Э. Системный подход к формированию коммуникативной компетенции студентов в билингвальной среде . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Социально-психологические проблемы здорового образа жизни . . . . 175 Денисов Л.А., Маркосян А.А., Савичева Н.М. Проблема формирования здорового образа жизни в контексте взаимодействия здравоохранения и образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Ульяненкова Е.А. Технология формирования здорового образа жизни основных участников образовательного процесса высшего учебного заведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Храмцов П.И. Функциональная самодиагностика здоровья как условие формирования устойчивых навыков здорового образа жизни студентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Требования к оформлению рукописей для опубликования в научном журнале «Вестник МГАДА». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Указатель статей, опубликованных в журнале «Вестник МГАДА» (серия «Философские, социальные и естественные науки») в 2011 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Тема номера Г.Х. Шингаров Условный рефлекс — естественно-научная модель изучения знаковых систем И стория открытия условного рефлекса как феномена деятельности нервной системы уходят корнями в конец XIX — начало XX века. Беглый взгляд на историю философии, математики, логики, лингвистики, психологии и некоторых других наук того времени легко убеждает нас в том, что эта проблема имела существенное значение для развития научного знания. Так, Г. Фреге систематически изложил исчисление высказываний. К этому времени относятся и труды Э. Кассирера, Ч. Пирса, Ч. Морриса и др. В 1887 году вышла работа французского ученого М. Бреаля «Очерк семантики, науки о значениях». К циклу гуманитарных наук, изучающих проблему знака и значения, присоединяются и некоторые естественно-научные и медицинские дисциплины — физиология нервной системы, клиническая неврология, психиатрия и др. В 1864 году П. Брокá и в 1871 году К. Вéрнике открыли так называемый «центр речи» с его моторной и сенсорной частями. В это же время (1895 год) появилось и учение 3. Фрейда. Стали известны такие феномены, как «психическая глухота», «психическая слепота». Иными словами, появились факты и клинические наблюдения, говорящие о том, что человек, как и некоторые высшие животные, может воспринимать объекты реального мира как физическое явление, но не понимать их значения. Стало ясно, что восприятие физических свойств объективных предметов (как и процессов, и акустической составляющей слов) и понимание их значения — вещи совершенно разные. Утвердилось представление о том, что восприятие значения слов и других знаков — специфическая познавательная функция. В основе подобных представлений о функциях мозга лежали факты, связанные с изучением таких явлений, как тактильная, зрительная и акустическая агнозия, афазия, которые открыли и изучили В.М. Бехтерев [1], Ж. Дежерин [2], Г. Хэд [3] и др. В 1896 году Дж. Дьюи в статье «Понятие рефлекторной дуги в психологии» сформулировал «закон эффекта», согласно которому знаки играют существенную роль в преобразовании неудовлетворительной ситуации в удовлетворительную. Близкими к этим взглядам были основные положения Э. Торндайка, сформулированные в книге «Ум животных. Экспериментальные исследования» (1898 год). В 1907 году Бехтерев создал учение о сочетательных рефлексах и объективную психологию. Иван Петрович Павлов шел к открытию условного рефлекса не только под влиянием всеобщего интереса к изучению знаковых систем в конце XIX века, но и в силу внутренней логики его собственных научных исследований законов пищеварения. С 1890 года он работал над проблемой влияния
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. № 1 (13) 6 психических факторов на процессы пищеварения. Для изучения этого явления им были разработаны специальные экспериментальные методы. На этом пути и был открыт феномен условного рефлекса. Первое официальное сообщение об открытии условных рефлексов, сделанное Павловым на общем собрании Международного медицинского конгресса в Мадриде в апреле 1903 года, где он выступил с докладом «Экспериментальная психология и психопатология на животных», традиционно считается началом истории павловского учения об условных рефлексах. Деятельность высших животных и человека, известная в настоящее время как условно-рефлекторная, стала предметом научных исследований одновременно и в России, и в США. Но у русских и американских ученых, как отмечал сам Павлов, были разные побуждения к изучению условных рефлексов. В отличие от американцев, Павлов открыл и изучал условные рефлексы как физиолог, и это накладывало свой отпечаток не только на видение самого предмета, но и на методы его исследования. Как признавался Павлов, самим ходом физиологических исследований в области пищеварения он был «приведен к пониманию» психического слюноотделения как рефлекторного процесса. Именно благодаря этому ему удалось связать естествознание с психологией через метод численного измерения психических явлений. Деятельность слюнных желез была «счастливой находкой» в научных исследованиях русского ученого, она оказалась той удачной моделью, на которой феномен условного рефлекса можно было изучать «в чистом виде». Чтобы говорить об условном рефлексе как о естественно-научной модели изучения знаковых систем, следует доказать, прежде всего, что сам он является знаковой системой sui generis. Однако чтобы понять, что условный рефлекс — это своеобразный феномен деятельности нервной системы и организма в целом, выделим понятия (категории), составляющие категориальный каркас описания и понимания событий, происходящих в процессе создания и функционирования условного рефлекса: безусловный раздражитель • (причина деятельности в безусловном рефле ксе); особенности деятельности организма • в процессе реализации безусловного рефлекса; подкрепление • — своеобразно переделанный безусловный раздражитель, создающий особое психическое состояние организма и поддерживающий функционирование условного рефлекса; условный раздражитель • — сигнал, знак, вызывающий специфическую деятельность организма и репрезентирующий в своеобразной, идеализированной форме безусловный раздражитель; знак до создания условного рефлекса существует в качестве индифферентного раздражителя. Для характеристики условного рефлекса как знаковой системы сначала сошлемся на некоторые общеизвестные, популярные определения понятия «знак». Так, Гегель образно описывал знак как «пирамиду», в которой заключена «чья-то чужая ей самой душа»; Ф. де Соссюр сравнивал словесный знак с листом бумаги, одна сторона которого — это знаковый образ, а другая — понятийное содержание. «Под знаком вообще в современной науке, — пишет
Тема номера Ю.С. Степанов, — понимают материальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие, процесс), который в познании и общении людей выступает в качестве представителя» [4, с. 9]. Очевидно, что знак как чувственно воспринимаемый объект представляет другой чувственно воспринимаемый объект или явление. Подходит ли условный рефлекс под отмеченное понимание знака и знаковых систем? Одни авторы считают, что условный рефлекс и само павловское понятие «сигнал» нельзя рассматривать как знаковую систему и, соответственно, условный раздражитель как знак. Другие (Т. Павлов, А.М. Коршунов, В.В. Мантатов, Л.А. Абрамян и др.) рассматривают павловский сигнал как вид знака, а условный рефлекс — как знаковую систему. Так, например, Л.А. Абрамян пишет: «Сигнал в учении об условных рефлексах — это явление внешнего мира по отношению к нервной системе животного, которое, в силу установления нервной связи, вызывает у организма ту же реакцию, что и безусловный раздражитель. Потому он и называется сигналом, что между ним и сигнализируемым явлением существует такое же отношение, как между знаком и обозначаемым» [5, с. 119—120]. Вопрос о сигнале как знаке в условном рефлексе широко обсуждался и обсуждается и в американской психологической и физиологической литературе. Так, например, Г.-Л. Холингворс прослеживал связь между понятиями «знак» и «условный раздражитель» при помощи понятия «воссоединение» (reintegration); К. Холл для обозначения сигнала ввел понятие «чистых стимулов» (pure-stimulus acts), которые он определял как действия, служащие стимулами для других действий. Особое место среди бихевиористов занимал Э. Толмен. Он отводил понятию «сигнал» самую важную роль в учении о деятельности высших животных и человека. Все поведение для него — сигнальное поведение. Восприятия, умозаключения, память, чувства, эмоции и личностные механизмы (репрессия и фиксация) — все это Толмен рассматривал как знаковые феномены. Знаковый образ (sign-gestalt), согласно этой точке зрения, существует при наличии признаков поведенческой ситуации, на которые животное реагирует (их ученый называет сигналами, или объектами-сигналами); объектов, обозначаемых этими сигналами (сигнификатами), и связи между знаками и сигнификатами [6, с. 136]. Трехчленную знаковую ситуацию можно рассматривать как простейшую клеточку знакового процесса, взятого в статичном виде. Нередко трактовка знаковой ситуации опирается на понятие «семантический треугольник» («треугольник отношений»), введенное С. Огденом и А.И. Ричардсом в книге «Значение значения» для объяснения «отношений между мыслями, словами и предметами, как они обнаруживаются в случае рефлексной речи» [7, с. 10]. С пониманием сущности знака непосредственно связано и понимание сущности значения. Есть разные точки зрения по этому поводу. Согласно первой, значение знака состоит в том, что он побуждает субъекта к какомулибо действию. Так, например, Ч. Пирс писал, что «значение символа состоит в том, как он мог бы побудить нас действовать» [8, с. 135]. Подобной точки зрения на значение придерживались Ч. Моррис и др. Другая точка зрения рассматривает значение как «соответствующую в нашем сознании связь (отношение) знака с тем, знаком чего является» [4, с. 10].
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. № 1 (13) 8 Значения как ответ на восприятие знака и как процесс узнавания десигната, как познание предмета, который репрезентируется знаком, не могут рассматриваться независимо друг от друга. Они дополняют и взаимообусловливают друг друга. Прагматическая суть сигнала (знака) определяется семантическим отношением знака к десигнату, а специфика прагматики — семантикой. Деятельность организма на знак — это действие на десигнат, представленный в знаке. И она не может реализоваться, если субъект не узнает в знаке свойства десигната, являющегося реальной причиной, вызывающей деятельность организма. В павловском условном рефлексе, где сигналом являются, например, удары метронома, собака выделяет слюну или желудочный сок не на раздражитель как на физическое явление, а на мясо, которое в естественных условиях вызывает эту реакцию, а в условном рефлексе служит подкреплением. «И вместе с тем ясно видите, — писал Павлов, — что эта деятельность есть сигнальная: удары метронома сигнализируют пищу, потому что на них животное отвечает той же реакцией, как и на пищу. Если мы покажем собаке пищу, то будет то же» [9, с. 36]. Это и множество других высказываний свидетельствуют о том, что Павлов рассматривал отношения сигнала (условного раздражителя) к безусловному раздражителю, обозначаемому сигналом, как знаковые, семантические отношения; что условный рефлекс является своеобразной знаковой системой, которая может служить естественно-научной моделью изучения знаковых систем. Русский ученый воспринимал открытый им условный рефлекс как частный случай более сложной, фундаментальной функции головного мозга — его сигнальной деятельности. «Итак, — писал он, — основная и самая общая деятельность больших полушарий есть сигнальная, с бесчисленным количеством сигналов и с переменной сигнализацией» [9, с. 30]. На ранних этапах онтогенеза высших животных и человека основными факторами их существования и жизнедеятельности являются предметы окружающего мира, удовлетворяющие их жизненно важные потребности и выступающие в качестве безусловных раздражителей. По сложившейся традиции с понятием безусловного рефлекса связывают определенную деятельность организма в ответ на действие специфического, в биологическом отношении для конкретного биологического вида, раздражителя. К безусловным рефлексам относятся самые различные виды деятельности организма — от простой реакции на болевое раздражение до инстинктов, влечений, сложнейших форм индивидуального и коллективного поведения. Но эти рефлексы, по мнению Павлова, являются лишь первой фазой соотношений организма и среды. Чем сложнее организм, тем тоньше, многочисленнее и разнообразнее формы его взаимодействия с окружающим миром. Активное начало рефлекторной деятельности, подчеркивал Павлов, находится в самом организме. Говоря о пищевом поведении, он связывал его, в первую очередь, с активностью пищевого центра мозга. «Совершенно ясно, — писал он, — что первый толчок к деятельности этого пищевого центра, заставляющий животное двигаться, брать пищу, лить слюну и желудочный сок, исходит из химического состава крови животного, у которого кровь постепенно делается “голодной”» [10, с. 148]. Сам по себе внешний пищевой фактор без «голодной крови» не вызывает пищевого поведения. В безусловном раздражителе субъект преднаходит себя, видит в нем источник своего
Тема номера существования. В силу этого безусловный раздражитель выступает причиной безусловно-рефлекторной деятельности. Эта деятельность имеет сложную структуру; она осуществляется ради чего-то, в ней заключена какая-то цель. Безусловный раздражитель выполняет функции причины в силу того, что имеет непосредственное отношение к удовлетворению соответствующей потребности организма; определяет время поступления в организм нужных ему средств существования и определяет специфику деятельности организма в зависимости от его биологических, химических, физических и других свойств безусловного раздражителя. Но, как показали многочисленные эксперименты, проведенные физиологами еще до Павлова, наличие одних только безусловных рефлексов делает животное «слепым», беспомощным в жизни. В эксперименте подобную «слепоту» у собаки создавал в 60-х годах XIX века знаменитый немецкий физиолог Ф. Гольц, при помощи специальной операции лишив ее больших полушарий головного мозга. В искусственных условиях собака Гольца прожила довольно долго, но самостоятельно существовать не могла. Безусловные рефлексы у нее присутствовали, однако к сигнальной деятельности она была абсолютно неспособна. «Ежедневная полная жизнь, — пишет Павлов, — требует более детальных, специальных соотношений животного с окружающим миром. И это дальнейшее соотношение устанавливается только при помощи высшего отдела центральной нервной системы больших полушарий, причем дело, ближе говоря, обстоит так, что множество всевозможных агентов природы сигнализируют собой, и притом временно и переменно, те основные относительно немногочисленные агенты, которые обусловливают врожденные рефлексы. И таким только образом достигается точное и тонкое уравновешивание организма с окружающим миром. Эту деятельность больших полушарий я называю сигнальной деятельностью» [9, с. 31—32]. Сигнальная деятельность осуществляется большими полушариями мозга, которые он рассматривал как «грандиозный сигнальный прибор высшей чувствительности». Благодаря сигнальной деятельности больших полушарий «безусловный рефлекс — до известной степени слепой — становится как бы зрячим». Но сигнальные раздражители являются непостоянными, временными возбудителями подкорковых центров; они действуют лишь тогда, когда правильно сигнализируют основные, необходимые для жизни условия. Когда Павлов говорил о сигнальной деятельности, он имел в виду не только классический условный рефлекс. Основную сигнальную деятельность больших полушарий он сводил к так называемым «натуральным условным ре флексам». В них сигналом может служить какое-то свойство объекта, который сам является безусловным раздражителем. Вой волков, рычание тигра, тень, отбрасываемая орлом, — все это сигналы опасности для животных-жертв. Все эти явления суть свойства, качества, «акциденции» хищника — безусловного раздражителя. Сигнальные рефлексы этого типа можно рассматривать как «акцидентально-субстанциональные» сигнальные рефлексы. Классический павловский условный рефлекс — это временно-сигнальный рефлекс. Сделаем маленькое отступление и сошлемся на рассуждения Платона в диалоге «Кратил», где речь идет о том, как даются имена предметам и людям. Гений древнегреческого мыслителя уловил оба типа сигнальных отношений; о них впоследствии писал Павлов. Имена, отмечал
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. № 1 (13) 10 Платон, можно давать и произвольно, но часто они связаны с существенными свойствами именуемого. «Таким образом, — говорит он устами Сократа, — бесценнейший мой законодатель, о котором мы говорили, тоже должен уметь воплощать в звуках и слогах имя, причем то самое, какое в каждом случае назначено от природы» [11, с. 421, 389]. Да, натуральные сигнальные ре флек сы можно наблюдать, но их изучение не может дать нам представление о том, как возникают знаки; с их помощью нельзя создать концептуальный каркас и экспериментальные методики, необходимые для раскрытия внутренних механизмов деятельности организма, порождающих знаковые системы. Павловский условный рефлекс — особый случай сигнальной деятельности, где десигнат и знак до создания условного рефлекса между собой не связаны, могут не иметь ничего общего. Пища и звонок или лампочка до создания условного пищевого рефлекса — абсолютно разные вещи. Лишь благодаря тому, что при определенных условиях звонок или свет лампочки являются единственными предметами, которые могут «вобрать в себя» мотивирующую способность безусловного раздражителя, они становятся сигналами. «Основным исходным понятием у нас, — писал Павлов, — является декартовское понятие, понятие рефлекса. Конечно, оно вполне научно, так как явление, им обозначаемое, строго детерминируется… тот или другой агент закономерно связывается с той или другой деятельностью организма, как причина со следствием» [9, с. 22]. Безусловные рефлексы Павлов рассматривал как явления, глубоко связанные с инстинктами. Рефлексы, изучаемые физиологами в лабораториях, касаются, главным образом, отдельных органов и систем организма, инстинкты — деятельности целого организма под видом общего поведения животных и человека. «Таким образом, — писал ученый, — как рефлексы, так и инстинкты — закономерные реакции организма на определенные агенты, и потому нет надобности обозначать их разными словами… Совокупность этих рефлексов составляет основной фонд нервной деятельности как человека, так и животных» [9, с. 26]. Если мотивирующая, вызывающая какие-либо деятельности организма, способность безусловного раздражителя определяется его возможностью удовлетворять какую-либо потребность организма, то структура рефлекторной деятельности определяется биологическими, химическими, физическими и другими особенностями этого же раздражителя, а также ситуацией, при которой организм овладевает им, то есть навыками и опытом субъекта. Он рассматривал овладение пищей и ее усвоение как сложный поэтапный процесс, начинающийся с внешнего механического овладения и кончаю щийся полной химической ее обработкой с включением продуктов этой обработки в метаболизм организма. Безусловный раздражитель в условно-рефлекторной деятельности выступает в двух ипостасях — и как причина деятельности, и как объект воздействия этой же причины. Как причина он вызывает деятельность, предметом воздействия которой сам и становится. Деятельность организма, вызываемая безусловным раздражителем, имеет характер инструмента воздействия на эту причину — инструмента, направленного на преобразование безусловного раздражителя в целях самосохранения, самовоспроизведения и саморазвития организма. Если буквой S обозначим безусловный раздражитель