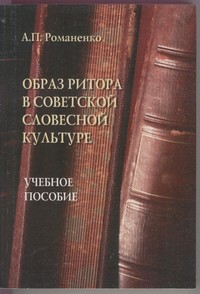Образ ритора в советской словесной культуре
Покупка
Издательство:
ФЛИНТА
Автор:
Романенко Андрей Петрович
Год издания: 2012
Кол-во страниц: 432
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-89349-493-8
Артикул: 620685.01.99
В пособии рассматривается модель, описывающая нормативную речемыслительную структуру советского человека — образ ритора. Это партийные функционеры, политики, управленцы, научные работники, писатели и многие другие. При анализе образа ритора разбираются про- блемы истории и теории русского литературного языка и словесности, филологии, философии, политологии, культурологии, риторики и др. Студентам-филологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся гуманитарной проблематикой, историей отечественной культуры.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
А.П. Романенко ОБРАЗ РИТОРА В СОВЕТСКОЙ СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЕ Учебное пособие 2-е издание, стереотипное Москва Издательство «Флинта» 2012
УДК 80/81(078)
ББК 83.7я73
Р69
Романенко А.П.
Р69 Образ ритора в советской словесной культуре [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А.П. Романенко. – 2-е изд., стер. – М. :
Флинта, 2012. – 432 с.
ISBN 978-5-89349-493-8
В пособии рассматривается модель, описывающая нормативную речемыслительную структуру советского человека — образ ритора. Это
партийные функционеры, политики, управленцы, научные работники,
писатели и многие другие. При анализе образа ритора разбираются проблемы истории и теории русского литературного языка и словесности,
филологии, философии, политологии, культурологии, риторики и др.
Студентам-филологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся гуманитарной проблематикой, историей отечественной
культуры.
УДК 80/81(078)
ББК 83.7я73
ISBN 978-5-89349-493-8 © Издательство «Флинта», 2012
ная «новоязом» Дж. Оруэлла. Согласно этой модели советская действительность — это притивостояние власти и народа. Власть притесняет и лжет, народ страдает от притеснения и сопротивляется. Повидимому, дело обстояло сложнее, и, чтобы разобраться, нужно в первую очередь отрешиться, насколько возможно, от предвзятых оценок. Материал книги — советская словесность (преимущественно нехудожественная), главным образом, 20х и 30х годов — ключевого периода для понимания специфики советской словесной культуры (время формирования и становления ее норм). В конце разделов приводятся вопросы и задания, которые помогут читателю обратить внимание на главные моменты изложения. В Приложении приведены отрывки из художественных произведений, в которых изображается советский ритор. В тексте пособия имеются ссылки на Приложение. Отрывки снабжены необходимыми комментариями и заданиями и могут использоваться для более успешного освоения и закрепления теоретических сведений, изложенных в книге. Цитаты, являющиеся в пособии материалом, набраны, как и языковой материал, курсивом.
В языкознании ХХ в. активно обсуждалась проблема объекта и предмета исследования. Наиболее авторитетной и популярной оказалась дихотомическая модель Ф. де Соссюра. По своему характеру и философским основаниям она представляла собой позитивистскую теорию, близкую методологии естественнонаучного знания [Волков А.Г. 1966]. Это проявлялось, в частности, в понимании языка как имманентной сущности, в приписывании языку и речи однородности — свойства природных объектов. Отсюда, повидимому, простота этой теории, обеспечившая ей феноменальную популярность. В развивавших теорию Ф. де Соссюра концепциях (структуралистских, трансформационных, теоретикоинформационных) содержалась глобальная идея о простых отношениях языка и речи, в основном трансляционных: единицам языка соответствуют единицы речи. Языковая деятельность, согласно метафоре Ф. де Соссюра, понималась как игра (шахматная или другая), а члены языкового коллектива как игроки, одинаковые по отношению к языку (правилам игры). В то же время осознавалась и ограниченность такого представления объекта и предмета языкознания. О культурной детерминированности языковой деятельности говорил еще В. фон Гумбольдт; в ХХ в. эти проблемы на Западе поставили Э. Сэпир, К. Фосслер и др., у нас вслед за А.А. Шахматовым — В.В. Виноградов. В книге 1930 года «О художественной прозе» [Виноградов 1980: 56—175] он предпринял критику соссюровской концепции и показал, что носители языка не могут в силу своей культурной принадлежности быть одинаковыми по отношению к языку и язык не может быть единым по отношению к носителям, так как он является не просто системой условных знаков, но культурнообусловленным историческим фе
номеном. «По Виноградову, языковое сознание членов общества в принципе не едино. Оно однородно лишь в той мере, в которой разные члены общества находятся в однородных социальноязыковых контекстах» [Рождественский 1978: 23]. В своей исследовательской практике В.В. Виноградов понимал язык широко и сосредоточивал внимание на культурноисторических аспектах его существования. При этом в объекте и предмете исследования оказывался и носитель языка — языковая личность, также детерминированная культурноисторически (понятие образа автора, образа оратора, внимание к фигурам филологанормализатора, современникасвидетеля, героя произведения и т.п.). Поэтому отношения языка и речи (системы и текста) не могут выглядеть столь просто и однолинейно, как у Ф. де Соссюра и соссюрианцев. Как свидетельство неудовлетворенности соссюровской дихотомией можно трактовать и активизацию в последнее время теоретических и практических разработок науки о речи: лингвистики текста, теории речевых актов, теории дискурса, неориторики и др. Кроме всего прочего, эти разработки показали, что между языком и речью отношения вовсе не просты и, по существу, еще не прояснены современной наукой. «Неверно говорить, — заметил по этому поводу Ю.В. Рождественский, — что речевая деятельность распадается на язык и речь, так как признаки, которыми занимаются теория речи и теория языка, присутствуют в материи одного и того же акта общения» [Рождественский 1990: 115]. В отечественном языкознании последнего времени выделим две концепции, развивающие виноградовскую традицию культурноисторического представления языковых и речевых фактов и оказавшие самое прямое и непосредственное влияние на разработку нашего понятия словесной культуры. Это общефилологическая концепция словесности Ю.В. Рождественского [Рождественский 1979; 1996а; 1996б; 1997; 1999] и концепция речевой культуры В.Е. Гольдина и О.Б. Сиротининой [Гольдин, Сиротинина 1993; 1997]. Эти концепции (разумеется, не только они) ориентированы на установление прежде всего общих, а затем уже различных свойств языка и речи, на выработку синтетического, интегрального представления предмета филологического и лингвистического исследования.
Под словесной культурой мы понимаем, вопервых, языковую жизнь общества как часть культуры общества. Она имеет дело с фактами культуры, которые, в отличие от других, представляют собой либо правило, либо прецедент, являются уникальными и имеют свои хронотопы [Рождественский 1996а: 13]. Другими словами, словесная культура — это система нормативов, по которым строится языковая жизнь общества. Вовторых, словесная культура — это те общие принципы, которые лежат в организации и языка, и речи, и языковой личности, и словесности, и филологических описаний — всей языковой жизни общества. Эти общие принципы задаются культурой. Понятие словесности Ю.В. Рождественского очень близко этому содержанию, но оно более строго сформулировано и несколько у´же. Понятие речевой культуры В.Е. Гольдина и О.Б. Сиротининой также очень близко указанному содержанию, но не включает в себя требования «общности» и «нормативности» рассматриваемых фактов. Кроме того, разработанная авторами типология речевых культур относится в основном к современному обществу и не учитывает специфики общества советского. И здесь можно отметить третье свойство нашего понятия словесной культуры: это понятие не универсально, оно разработано для описания советской тоталитарной культуры. Поэтому главным в словесной культуре (советской) является соотношение «ритор — массы», и основной аспект рассмотрения фактов — риторический. Отсюда появляется и основной конструкт описания — образ ритора (далее — ОР), концентрирующий в себе как в главном нормативе все основные свойства словесной культуры. Понятие словесной культуры носит очень общий и нестрогий характер, поскольку задача выявить специфику советской языковой жизни еще не решена. Это понятие позволяет при такой ситуации довольно свободно обращаться с исследуемым материалом. Дальнейшее изучение проблемы позволит уточнить, скорректировать или отказаться от этого понятия. Думаем, что при описании недостаточно еще изученного материала имеет смысл не подгонять его под уже имеющиеся модели (разработанные на другом материале), а разработать свою, более адекватную модель.
Словосочетание нетерминологического характера «словесная культура» встречается у В.В. Виноградова, который употребляет его тоже в предельно общем смысле. В книге наряду с термином «словесная культура» используются термины «словесность» и «логосфера». Они, как говорилось, у´же по значению и почти синонимичны; первый употребляется, когда имеется в виду прежде всего состав словесной культуры, второй — ее речемыслительная структура. Советская словесность как система произведений речи, выполнявшая культурогенные и, в первую очередь, гомилетические функции, имела своеобразный характер, который называют тоталитарным, пропагандистским, политизированным, идеологизированным, мифологизированным и т.п. Все эти квалификации верны, и их следует учитывать при изучении советской словесности и советской культуры. Однако чтобы это сделать, следует понять, каков наиболее адекватный этому материалу метаязык филологического описания, способный учесть и объяснить свойства материала. Специфика словесности определяется, вопервых, особенностями ее функционирования (системой коммуникации), вовторых, её структурой, т.е. соотношением её частей, их функциональным балансом. Ю.В. Рождественский называет это внешними и внутренними правилами словесности [Рождественский 1996б: 21—22]. Особенности функционирования советской словесности во многом определялись нормированием и регламентацией ее партийноправительственным аппаратом, т.е. властью. Эта деятельность осуществлялась по принципу демократического централизма, регулировавшего соотношение двух видов речи — совещательной и документной. Дело подлежало всестороннему обсуждению, допускавшему множественность мнений, но когда в результате обсуждения формулировался документ — это означало выработку единого (и единственного) мнения, отступления от которого запрещались. В разные периоды советской истории соотношение между совеща
тельной речью и документом было разным. Так, в 20е годы ведущим видом речевой деятельности партии была ораторика, в 30е — документ. Документ и стал нормирующим видом речи в советской словесности. Это поддерживалось тем, что в основе всей речевой деятельности и организации советского общества лежали партийные документы. Поэтому функционирование советской словесности осуществлялось почти по правилам документооборота. Почти — потому что полностью стать канцелярской словесности не давал компонент ораторики, принципиально предусмотренный демократическим централизмом. Речевое произведение в любой публичной сфере общения — научной, художественной, школьной, не говоря уже о делопроизводстве и массовой информации, могло выйти к читателю, т.е. начать функционировать, лишь после строго определенного документооборота, получив необходимые для этого реквизиты — резолюции, визы, согласования, подписи, печати и т.п. Такой способ функционирования словесности отразился и на ее структуре. Стиль словесности канцеляризировался. Эту «болезнь языка» К.И. Чуковский назвал канцеляритом. Вместе с тем в гомилетике, одном из ведущих и самом влиятельном виде речи [Рождественский 1997: 364], произошла экспансия пропаганды. Церковная проповедь и религиозные деятели были вытеснены из пределов официальной культуры, это место заняли пропаганда и партийные работники. Партийная пропаганда потеснила и учебную речь. В результате «смешение пропаганды с проповедью и учебной речью скомпрометировало полностью состав пропагандируемых идей» [Рождественский 1997: 365] и повлияло на всю систему словесности, придав ей пропагандистский характер. Эти обстоятельства сформировали и советскую художественную литературу — социалистический реализм, совместивший в себе пропаганду, документ и «художественные особенности». Таким образом, советская словесность отличалась канцелярскопропагандистской риторичностью, поглотившей поэтические функции. Описанные явления не были лишь результатом целенаправленного воздействия власти на язык. Обратимся к предпосылкам. В русском литературном языке XVIII—XIX вв. особой значимостью обладал деловой стиль, предопределивший во многом языко
вую реформу Н.М. Карамзина [Романенко 1992]. Известно также, какой степени разработанности и сложности достиг канцелярский стиль в XIX в., это не могло не проявиться в последующей истории литературного языка и словесности. Нормирующим видом речи в XIX в. была художественная литература. Она взяла на себя и некоторые гомилетические функции: развлекая, она и проповедовала, и учила, и философствовала, и пропагандировала. Это повышало ее риторическую нагруженность и делало смысловым центром всей речевой деятельности общества. Русская философия рассматривала художественную литературу в качестве своего важнейшего источника и материала. Фигура писателя оказывалась чрезвычайно авторитетной. Н.В. Гоголь, например, так определил русского писателя: «При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах <...> Нет равного ему в силе — он Бог!» («Мертвые души»). Вместе с этими процессами в литературе шло вытеснение риторики как нормативной теории прозы поэтикой, на что обратил внимание В.В. Виноградов. В книге «О художественной прозе» он рассмотрел эволюцию русской словесности с XVIII до середины XIX в. в связи со «смысловыми превращениями» ее описания — риторики и поэтики (слова в виноградовских цитатах выделены автором. — А.Р.). Этот анализ показывает становление риторичности русской художественной литературы «как особой категории словесного построения» [Виноградов 1980: 75]. Отмечается, что «проблема риторических форм (в отличие от поэтических) окажется необыкновенно существенной для понимания изменений в структуре и составе той языковой деятельности, которая в разные эпохи выполняла функции литературы в нашем смысле» [Виноградов 1980: 75]. Вырисовывается следующая картина. Период с XVIII по 40е годы XIX в. характеризуется настойчивыми попытками нормализаторов словесности дать критерии разграничения поэзии — художественной словесности и прозы — нехудожественной словесности (в этом, риторическом, смысле будем далее употреблять термины «поэзия» и «проза»). «Можно даже сказать, — пишет В.В. Виноградов, — что проблема красноречия в литературном аспекте целиком сводится к вопросу о соотношении