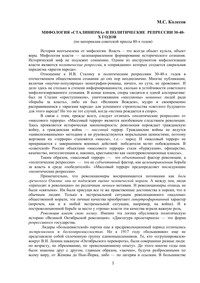Мифология "сталинизма" и политические репрессии 30-40-х годов
Покупка
Основная коллекция
Издательство:
Вузовский учебник
Автор:
Колесов Михаил Семенович
Год издания: 2015
Кол-во страниц: 16
Дополнительно
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
М.С. Колесов МИФОЛОГИЯ «СТАЛИНИЗМА» И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 30-40 Х ГОДОВ (по материалам советской прессы 80-х годов) История неотъемлема от мифологии. Власть – это всегда объект культа, объект веры. Мифология власти — целенаправленное формирование исторического сознания. Исторический миф не подлежит сомнению. Одним из инструментов мифологизации власти являются политические репрессии, в «оправдание» которых создается сакральная парадигма «врагов народа». Отношение к И.В. Сталину и политическим репрессиям 30-40-х годов в отечественном общественном сознании до сих пор неоднозначно. Многие публикации, включая «научно-популярные» монографии-романы, ничего, по сути, не проясняют. И дело здесь не столько в степени информированности, сколько в устойчивости советского мифологизированного сознания. В конце концов, споры сводятся к одной альтернативе: был ли Сталин «преступником», уничтожившим «миллионы» невинных людей ради «борьбы за власть», либо он был «Великим Вождем», мудро и своевременно расправившимся с «врагами народа» для успешного строительства «светлого будущего» для этого народа? Но это не тот случай, когда «истина рождается в споре». В связи с этим, прежде всего, следует отличать «политические репрессии» от «массового террора». «Массовый террор» является неизбежным следствием революции. Здесь проявляется историческая закономерность: революция порождает гражданскую войну, а гражданская война — массовый террор. Гражданские войны не ведутся «цивилизованными» методами и не руководствуются моральными ценностями, поэтому жертвами их «террора» становятся «массы», т.е.— народ. И «массовый террор» не прекращается с завершением военных действий: победители мстят побежденным. В «советской» России объектами «массового террора» стали «буржуазия», офицерство, казачество, интеллигенция и, наконец, крестьянство как «контрреволюционные классы». Таким образом, «массовый террор» — это объективный фактор революции, а «политические репрессии» — это ее субъективный фактор, как целенаправленная борьба за власть в среде «победителей». «Массовый террор» предопределяет последующие «политические репрессии». Примечательно, что революционеры воспринимаются потомками как боги греческого Олимпа: они не подлежат оценке человеческой морали. А между тем, люди «приходят в революцию» по различным личным мотивам. И революционеры отнюдь не были «святыми». Им были присущи все те же нравственные достоинства и пороки, что и обычным людям. Только в экстремальной ситуации революционного «надлома» общественной морали, эти личные качества приобретают гипертрофированный характер (впрочем, как и в любой экстремальной ситуации, например, на войне). И в постреволюционной борьбе за место у «трона» власти эти качества играли важную роль. Революция имеет свою логику. Именно эта логика обусловила политическую историю «Великой Октябрьской революции». «Диктатура пролетариата» — это форма репрессивного государства. Лидеры «большевистской» партии еще в предреволюционный период отличались экстремизмом и бескомпромиссностью. Но к 1917 году «большевики» еще не представляли собой сплоченную группу единомышленников. Те, кто «сгруппировался» вокруг В.И. Ленина накануне «Октябрьского переворота», были совершенно разные люди: по возрасту, по образованию, по «революционному опыту». До этого многие годы они были знакомы друг с другом, главным образом, «заочно», будучи разбросанными по всему миру, от Женевы до Нью-Йорка, либо — по лагерям и ссылкам. В большинстве